ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА
рассказ
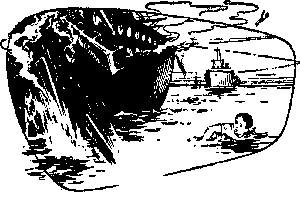 В кают-компании собрались в последний раз. Завтра - Белое море, хлопоты перед окончанием арктического рейса, завтра уже не до рассказов...
В кают-компании собрались в последний раз. Завтра - Белое море, хлопоты перед окончанием арктического рейса, завтра уже не до рассказов...
Особенно людно было сегодня в кают-компании. Не всем хватило обитых кожей старинных стульев. Кое-кому пришлось подпирать спиной переборки с деревянными панелями.
Много я слышал здесь рассказов о мужестве, силе, храбрости, о находчивости, даже о небывалом страхе, о подвиге, о дружбе и любви, коммунистической совести, о необычных буднях в ледовом краю...
– Ну, как это полагается, напоследок надобно рассказать о чем-нибудь самом большом, что только с человеком случилось... Кто бы нам об этом рассказал? – обратился к присутствующим капитан.
Моряки и полярники жались, никто не решался брать на себя «рассказ о самом большом»...
И вдруг Марина сказала, что хочет рассказать о самом большом потрясении, какое перенесла в жизни.
Я видел ее и раньше, но она никогда ничего не говорила.
Маленькая, застенчивая, с порывистыми движениями южанки, с приятными мелкими чертами смуглого лица, темноволосая, но со светлыми глазами, ясными и быстрыми...
И вот теперь Марина решилась. Она решилась и, должно быть, сама испугалась, зарделась вся. Стала говорить, невольно помогая себе руками.
– Раньше я никогда бы не поверила, что могу вот так с вами плыть на корабле по Баренцову морю... Я боялась моря, страшно боялась... я даже не могу передать, как я его боялась. У нас в детском доме все девочки были как на подбор, хотели на самое что ни на есть трудное пойти, в горы... или в степь... А я в Арктику давно решила. Всем сказала, а сама даже не знала, как я смогу в Арктику попасть, если моря боюсь. Говорят, какой-то знаменитый летчик боялся высоты. Но у него была такая воля, что он заставил себя стать знаменитым летчиком. У меня, конечно, никакой воли не было, я просто хотела... нравилось мне в Арктике, в снегах... тишина... У меня кровать у окошка стояла, я ночью выглядывала и представляла, что уже в Арктике. Только, конечно, для Арктики я не годилась.
А моря бояться я стала вот почему. Я была в Артеке совсем еще маленькой, самой там младшей... А папа с мамой из Москвы приехали отдыхать к родным в Одессу. Какое тогда лето было хорошее!.. И вдруг война. Даже страшно вспомнить. У нас рядом с Артеком что-то было, не знаю, но только немецкие бомбы все на наш Артек сыпались. Мне так жалко было Артек, что я плакала. Потом нас, детей, отправили в Одессу. Меня встречала мама, перепуганная, суетливая, шумная, а папа даже не поехал в Москву, в Одессе в военкомат явился. У меня папа замечательный был, я его даже больше мамы любила. Большой-большой, под самый косяк двери. И добрый. Мама черная была, а папа светлый. У меня его глаза. Он был самый красивый, самый лучший. Я так была уверена. Я очень плакала, что он меня не встретил.
Потом очень плохо было в Одессе. Пожары... гарью пахло... Мы с мамой кирпичи помогали разбирать... На носилках людей проносили... И все время воздушные тревоги. Железные дороги никуда не везли. Везде были немцы. Только море наше было.
В Одессе должны были одни герои остаться, а нас всех, много тысяч человек, погрузили на красивые теплоходы: «Ленин» и «Буденный». Мне очень нравилось по палубе бегать. Люди кричали: «Девочка! Как тебе не стыдно? Тут такое вокруг, а ты...» А мне спать не хотелось. Мы из порта вышли ночью. Город горел. Было страшно и красиво...
Утром мы проходили мимо Севастополя. Гористый берег - зубцами... Небо было все в клубочках дыма. Это очень стреляли с наших военных кораблей. Немецкие самолеты «юнкерсы» сбрасывали бомбы или торпеды, не знаю. Только я сама видела, как теплоход, который шел перед нами, взорвался... Как игрушечный, далеко-далеко... покрылся дымом - и не стало его...
А потом и в наш корабль мина попала. Я так кричала, что не слышала даже взрыва. Куда ни взгляну - везде огонь. И мамы нигде нет... Потом кто-то, я не знаю кто, схватил меня, напялил на меня что-то пробковое и стал с палубы сталкивать. Я визжала, брыкалась, мне очень страшно было, а он все-таки выбросил меня за борт. Многое я забыла, а этой минуты забыть не могу. На воде плыву, почти рядом борт корабля, высокий, как стена дома, только без окон... иллюминаторы кругленькие очень высоко... И развалился вдруг этот дом... одна стена в одну сторону, другая - в другую... Меня завертело в воде, я не знаю как... Это было самое страшное в моей жизни, а все-таки не самое страшное.
За нами следом баржи шли, тоже с людьми. Они стали подбирать из воды кого могли... Говорят, из всех тысяч человек только двести подобрали. Ну и меня...
А мамочки моей не подобрали. Не было нигде ее. Она, наверное, полная, растрепанная, бегала по палубе, шумела, все меня искала, пока... Ой, не буду вспоминать.
На барже было страшно тесно. Мы только стоять могли, сесть нельзя было. Какая-то женщина все меня по голове гладила и плакала. Я уже не плакала, а только дрожала. Как сейчас помню, будто от холода, а день очень теплый был...
В Ялте на пристани меня вдруг встретил папа. Я закричала и в грудь ему уткнулась. Он был какой-то солдатский, незнакомый, но это был папа - большой, сильный.
А мамы у нас уже больше не было.
И мы целый вечер и даже ночью ходили по набережной и потом по пляжу и ели сливы. С папой я даже моря не боялась.
Папа утром должен был снова отправиться в часть. Он отпросился на день нас с мамой встретить, а встретил только меня.
Я на гальке спала, голову ему на колени положила, он шинелью меня прикрыл. Я сначала на звезды смотрела, на море, темное, страшное, я не хотела смотреть... его подбородок видела, он о чем-то долго-долго думал, он не спал, я знаю, он только меня баюкал...
А утром я его провожала. Как большая. Я сказала, чтобы он шел биться с врагом. Хотела его поцеловать, на цыпочки привстала и никак достать не могла. А он опять о чем-то задумался. Потом ко мне нагнулся и даже от земли приподнял. А кругом толкотня... военные, женщины, дети... многие плачут и все торопятся...
И папа уехал. Я была уверена, что он может любого врага пополам сломать, потому что он очень рассердился. А так он добрый был, как никто.
Три дня я в Ялте жила, нас никак не отправляли. И письмо мне туда пришло, треугольничком сложенное... страшное письмо.
Папа мой геройски погиб, защищая Родину.
Я не плакала, несла это письмо, словно боялась уронить, и пришла на то самое место, где на коленях у папы спала. Села спиной к морю, которое маму отняло, и стала думать о папе. И никак я представить себе не могла, что папы больше нет. Не могла я этому поверить, потому что он был такой хороший и большой.
А потом меня отдали в детский дом. Я никогда не ела грибов, мама их не любила, а тут сразу заставили есть грибы, они были большие, плавали в супе, как медузы какие... Я их не ела, а меня дразнили: мамина дочка. А я уже никакая мамина дочка не была, не было у меня больше мамы... а в то, что папы у меня больше нет, я не верила.
А потом поверила... Много лет прошло... Я уже об Арктике мечтала и десятый класс в детдоме кончала. Нас первых оставили в детдоме до десятого класса учиться. Мы об этом письмо писали... А раньше после седьмого класса уходили в техникумы, в училища или на работу...
А я не только моря, даже реки боялась. Никогда не купалась, на лодке не плавала, по мосту шла - вниз не смотрела.
Боязнь эта у меня только и осталась от прошлого... Мама, папа - это непостижимо давно было и как в тумане... на море и ночью... звезды и подбородок папин виден... и солдатское что-то в папе...
А я уже большая стала, училась на метеоролога. Если страх свой перед морем не пересилю, решила в горах на метеостанции жить. Но хотела в Арктику. Мне еще в детстве Арктика и Артек созвучными казались... И тогда ночью на пляже я папе Арктику пообещала...
Исполнилось мне восемнадцать лет. Может быть, другие меня еще девчонкой считали, но я себя первый раз в жизни взрослой почувствовала. Я должна была участвовать в выборах в Верховный Совет... И была очень горда, что меня на агитпункт помогать взяли.
Списки проверять... Может быть, кому это и скучно, а мне... Я за каждым именем старалась человека представить. Фамилии всякие, и простые и замысловатые, многие по нескольку раз встречались. Мне интересно стало, есть ли у кого такая же, как у меня, фамилия. Ведь у меня Грибовых родственников никого не было.
Посмотрела я и ахнула. Глазам не верю! Потом туманом их застлало, ничего прочитать не могу. Наконец, догадалась платком их вытереть.
Грибов! Давыд Александрович!
Как папа!..
А сердце у меня колотится, будто я стометровку пробежала.
Смотрю год рождения. 1901-й... Как у папы!.. И город, в котором он родился, - Киев!..
Я плакать.
Тут девушка-агитатор, которая на квартиру к Грибовым ходила, рассказала мне, что Грибов этот женат... Значит, на чужой женщине женился!.. И что сын у них есть взрослый, ее сын, и тоже голосовать должен!
Как же так? Он меня в Ялте встречал, по берегу мы ходили, сливы ели, как сейчас помню... я у него на коленях спала, он м о й папа, самый лучший, самый сильный, самый добрый!.. Как же он мог, если жив остался, меня в детдоме не найти, с другой семьей жить и обо мне не вспомнить!
Вот, поверьте мне, то, что я в следующую ночь пережила, подушку с обеих сторон слезами вымочив, было страшнее всего, что я помнила... страшнее моря.
Не мог так мой папа поступить, а по списку это он был!
С опухшими красными глазами пришла я на агитпункт и попросилась на букву «г» списки проверять.
Сидела и голову от списков оторвать боялась. Только когда фамилию называли чужую, я поднимала глаза.
Не пришел он в тот день... Агитаторша к нему на квартиру ходила, напоминала, что отметиться надо... А я не пошла с ней, гордая была...
На второй день я над тем же списком на букву «г» сидела и опять головы не поднимала, все боялась, что увижу его, большого, русокудрого, светлоглазого, веселого, как прежде, молодого... Иным ведь я его не представляла...
И чем больше я о нем думала, чем больше слезами сердце мое заливалось, тем больше теряла я веру в человека. Если даже о н мог так поступить, то... И махнула я рукой на весь мир... По крайней мере так мне казалось.
– Грибов, Давыд Александрович. Отметьте, пожалуйста. Вот паспорт.
Голос какой-то чужой, незнакомый. Или я его совсем забыла?
Вскинула я голову и встретилась с его глазами, темными... Почему темными?
Передо мной стоял худощавый человек среднего роста, совсем не под косяк... с чужим, незнакомым лицом.
Не он!
– Что это, девушка, вы так улыбаетесь? – это он меня спросил.
А я почему-то ему руку жму.
– Да вы что это, девушка? Почему плачете?
А я говорю ему:
– Спасибо вам... – и паспорт отдаю, и снова благодарю.
Удивленный, он ушел и все оглядывался.
А для меня словно все иным стало вокруг. Что-то изменилось во мне... Я уже другой была, когда бюллетень опускала.
Я потом много думала - себя мне было жаль в ту страшную ночь, себя, оставленную в детдоме, забытую отцом, или е г о, большого, самого доброго, самого благородного, который не мог бы так поступить?
Мне стыдно было... Ведь все-таки лучше бы было, если бы он жив был!
Да, лучше! Но если б он жил, он был бы прежним, каким я его любила и люблю, до сих пор люблю, и нет на свете никого лучше его!
Я будто с ним повстречалась снова, снова будто у него на коленях головой лежала... и моря больше не боялась.
Я не знаю, как врачи это объяснят, только не стало у меня с тех пор моребоязни... Сначала я по реке на лодке стала кататься, а потом без всякого страха в Арктику поехала. И вот уже сколько лет здесь...
Марина кончила и снова зарделась.
– Я не знаю, почему все это рассказала... – оправдывалась она.
– И хорошо, что рассказала, – заметил капитан. – Иной раз в жизни многое и понятнее и легче будет, если с другими поделишься... Вот ведь как выборы в жизнь человека вошли! Это, пожалуй, поможет мне еще про выборы рассказать. Совсем другое... Да так и должно у нас быть.
И капитан рассказал про далекий северный берег, про старого охотника и знаменитого летчика, про полярную ночь...