Глава четвертаяЦВЕТЫ ЛЕСНЫЕ
Наука о целых числах без сомнения является прекраснейшей и наиболее изящной. Пьер Ферма.
Щеголеватый, еще молодой человек со старательно подвитыми локонами до плеч и застывшей улыбкой на заостренном к подбородку лице, и девушка, миловидная, стройная, с рыжеватой косой, переброшенной через плечо на грудь, спускались по крутой тропинке прямо от дачной калитки. Он предупредительно протянул ей руку, чтобы помочь на крутизне, но она, балансируя руками, словно танцуя на канате, пробежала по бровке и первая вошла в густую осязаемую тень оврага. Проросшие травой асфальтированные улочки академического дачного городка остались вверху, а внизу журчал ручеек Светлушка, прозрачный, как оптическое стекло, и холодный, как шуга в проруби. Перекинутый через него зыбкий мостик поскрипывал под ногами. Пройдя его, они стали подниматься по земляным ступенькам, укрепленным кривыми потемневшими дощечками. И попали совсем в другой мир с синим небесным куполом и выпуклым засеянным полем с каемкой леса по его краям. Здесь дышалось не так, как в овраге, — легко, свободно, и тело казалось раскованным, облегченным. И Наде хотелось вспорхнуть и лететь над бугром, за которым виднелись крыши деревушки Глебово, из-за квадратиков кровли похожие на поставленные «домиками» полураскрытые шахматные доски. Хотелось ощутить под прозрачным крылом так знакомое и так любимое ею чувство волнующей высоты, пленительное чувство полета, ради которого она отдавала свой досуг парашютному и планерному спорту. Но дельтаплана у нее не было. Сложенный, как крылья птицы в заплечный футляр, он остался на даче у дедушки. Сейчас Надей владели другие планы. Показав на старинную деревушку, она сказала: — В незапамятные времена здесь проходил тракт из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, тот самый, по которому скакал когда-то, спасаясь от ворогов, юный царь Петр. — Странно представить себе, что люди скакали прежде на лошадях, а не летали, как мы, по воздуху. — Сейчас мы с вами, Константин Петрович, совершим совсем иной полет. — Я смертельно устал от математики и потому готов ринуться с вами хоть в поднебесье, хоть в бездну. — Я это проверю, — скрывая разочарование, пообещала Надя, рассчитывавшая на разговор с профессором именно о математике. Но она была женщиной и умела добиваться своего. Они вошли в лесную тень, где теснились вековые в один-два обхвата деревья, глядя на которые былой частый гость здешних мест художник Васнецов писал после «Аленушки» своих «Богатырей». Попадались замшелые, словно с тех времен, пни и поваленные давним ураганом стволы, чуть пахнущие прелью. — Константин Петрович, — полуобернувшись, неожиданно спросила Надя, — я вам нравлюсь? Бурунов опешил и, радостно спохватившись, ответил: — Неужели это не видно из моего, я бы сказал, почти религиозного отношения к вам? — А как же Кассиопея? — не без лукавства спросила Надя. — Она божественна, как и вы, но... нас с вами объединяет некое математическое родство душ. — Ах вот как? — с притворным удивлением воскликнула Надя. — А я думала, что вы презираете во мне математичку. — Напротив, я восхищаюсь вашими стремлениями походить на Софью Ковалевскую. — А знаете, почему я стала ее поклонницей? — Не подозреваю, но хотел бы узнать. — Но это тайна! — Тем более! — Вы любите находки? Старинные? Бурунов не знал, к чему клонит эта внезапно ставшая кокетливой девушка, по многим причинам привлекавшая его: — Еще с мальчишеских лет мечтал найти окованный железом сундук с сокровищами рядом с человеческими костями. — А я нашла клад! В папином архиве. Только не сундук, а старую тетрадь столетней давности. В нее записывал свои математические этюды (по примеру Ферма) мой прапрадед, скромный офицер, служивший под Семипалатинском, Геннадий Иванович Крылов, предлагавший читателям самим найти доказательства своих выводов. Бурунов поморщился: — Опять Великая теорема Ферма, которую без особой надобности пятьсот лет не могут доказать? — Не только. В тетради был эпиграф из Ферма: «Наука о целых числах без сомнения является прекраснейшей и наиболее изящной». Слова-то какие! Ферма был истинным поэтом, и недаром мой прапрадед Крылов связал эти слова с именем Софьи Ковалевской, посвятив ей свой труд. Он почитал женщин, и в особенности ее, отдавшую себя математике. Свои формулы он называл женскими именами: «Людмила», «Вера», «Надежда»... Моя формула, понимаете? Я ею и увлеклась. И стала самой собой. — То есть как это? — Подойдите к этой березке. У вас есть карандаш? Спасибо. Помните теорему Ферма? — Надя написала на березке формулу. — Мой прапрадед не искал, как все, ее общего доказательства, а исследовал численные значения, лес цифр, отыскивая в нем закономерности, и открыл, что число в любой степени всегда равно сумме двух чисел, возведенных в степень на единицу меньшую, — и Надя записала рядом с первой вторую формулу. — И я, еще девчонка, школьница, поставила перед собой три задачи. Xn + Yn ≠ Zn, при n > 2 в целых числах Xn-1 + Yn-1 = Zn в целых числах, n = ∞ — Три? Сразу три? — Три, кроме Жанны д'Арк, ради которой я выучила французский язык. И решила: первое — узнать все о Софье Ковалевской. Ну вы это, конечно, знаете. Второе — узнать все о прапрадеде. О нем я вам расскажу. И третье — доказать эту его теорему. — Она показала на березку. — Формула Надежды. — Похвально для того вашего возраста. Итог? — Мой прапрадед был занимательный человек. Происходя от коренных сибиряков и преклоняясь перед благородством краснокожих, он считал себя родственным североамериканским индейцам. Правда, никто из его предков в Америке не бывал, но индейцы, как он считал, в Америку перешли из Сибири через Берингов пролив по существовавшему тогда перешейку или по дрейфующим льдам. Сам же он поклонялся цифрам, как язычник, выделяя из них совершенные и прежде всего цифру три. — Опять три? — Он пишет, что три точки определяют плоскость, что треугольник — первая плоскостная геометрическая фигура, что троекратное повторение самое многозначительное, что трехчастная сонатная форма наиболее доходчивая в классической музыке, что пространство трехмерно, что Земля стояла на трех китах и что золотую рыбку старик поймал в сети с третьего раза. — Этот принцип ограничивает доказательство тремя примерами, но я не удержусь добавить еще один: у отца было три сына: первый умный, второй так и сяк, третий вовсе был дурак. — Но стал любимым народным героем. — Увы, у своего папаши я был только вторым сыном. — А я у дедушки внучка единственная! — И несравненная! — поклонился Бурунов. — Если не сравнивать с Софьей Ковалевской. — Так почему же вы увлеклись ею? — Потому что доказала теорему прапрадеда и вообразила кое-что о себе! Вот смотрите, — и она снова стала писать на березке одну за другой формулы. Бурунов внимательно следил за нею. Примечание автора для особо интересующихся. Z — целое число: Zn = Z ∙ Zn-1; Z = A + B; Zn = Zn-1(A + B) = A ∙ Zn-1 + B ∙ Zn-1 =
— И я доказала теорему Крылова, моего прапрадеда. Не правда ли? — Вполне корректно, — согласился профессор. — Тогда я решила сделать Софью Ковалевскую своим кумиром. У девочек это бывает. Вот почему я занялась математикой. — Конечно, доказательство теоремы, которая не публиковалась, я бы сказал, элементарно, но... пожалуй, характеризует уровень автора теоремы, принадлежащего, очевидно, к категории дилетантов. Отдавая вам дань, как искусной оппонентке, какой и не заподозришь, глядя на вас, выражу искреннее сожаление по поводу того, что вы, принадлежа к такой всемирно чтимой научной семье, войти в которую счел бы за счастье любой ученый, — и он вскинул на Надю глаза, а та полуотвернулась. — Принадлежа к такой семье, — продолжал он, — вы опускаетесь до исканий честолюбивого дилетанта, воображающего, что ему доступно то, что не под силу профессиональному ученому. — А вычислить Плутон на кончике пера дилетанту оказалось под силу? А изобрести шину, открыв тем эру автомобилей, было под силу простому садовнику, обернувшему свой шланг для поливки цветов вокруг обода колеса? А выдвинуть специальную теорию относительности служащему патентного бюро в Цюрихе Альберту Эйнштейну было под силу? — Но Эйнштейн стал профессором, общепризнанным ученым, хотя ваш дед, академик Зернов, и опроверг ныне его теорию. Так что Эйнштейна никак нельзя причислить к дилетантам. — Однако в момент своего выступления с теорией относительности он все-таки был лишь дилетантом, а профессиональным ученым стал потом. И остался убежденным сторонником полезной деятельности дилетантов, этих бескорыстных служителей науки, любителей, то есть любящих. Недаром ему приписывают слова о том, как делаются открытия: «Знатоки знают, что этого сделать нельзя, а тот, кто этого не знает, приходит и делает открытие». — Ну, это милый анекдот, которому нельзя отказать в остроумии. — А дилетантам можно в этом отказать? — Нет, почему же. На примере Эйнштейна, если согласиться с вами, мы видим, что и любитель способен стать видным ученым. — Простите, но Эйнштейн еще не стал профессором, а был инженером, недавним выпускником Цюрихского политехнического института, когда выдвинул, как вы считаете, наиболее остроумный «парадокс времени»? — Ах, Надя! Вы завели меня в такую чудесную лесную глушь! Я вижу пять березок, растущих как бы из одного корня, напоминая предостерегающую длань некоего лесного божества. Но на одной из березок нанесены вашей рукой волшебные знаки, символизирующие надежду. Я хотел бы надеяться, Надя... Глядя на эту полянку, усыпанную цветущими ромашками, подобными звездам на ночном небосводе, мне хочется раскинуть ваш и мой гороскопы. — Ах, не то, совсем не то! Вы же математик! — Не только. Просто я вспоминаю о несколько ином парадоксе, связанном со временем, менее обыденном. — Парадокс, связанный со временем? — насторожилась Надя, обрадованная своим искусством подвести разговор с «уставшим от математики» профессором к интересующей ее теме. — Я имею в виду «машину времени». — Что? «Машину времени»? Но это же антинаучно! — Зато поэтично. И, если позволите, я прочту вам свои стихи про «машину времени», если хотите, то об этой лесной полянке. — Стихи? Ваши? — изумилась Надя. — Да, ученые иногда грешат этим. Так вы позволите? Бурунов на опыте знал, как безотказно действуют на обычных его спутниц ко времени прочитанные стихи, рассчитывая, что и сейчас они помогут ему воспользоваться этой уединенной прогулкой. Надя, стараясь скрыть разочарование, пожала плечами: — Читайте. Бурунов прислонился плечом к стволу дуба и проникновенно начал:
МАШИНА ВРЕМЕНИ
Да, я нашел ее в лесу, Когда весенние замолкли трели, И пух летящий снегом лег на ели, Застрял в тенетах на весу — «Машина времени» — в лесу!
Узнать судьбу свою легко! Цыганкой вечною, самой Природой Здесь на лужайке звездным небосводом Цветов раскинут гороскоп. А лепестки их рвать легко!
Казалось, нет к тебе следа, Но даль забытая вдруг стала близкой, Как незабудок ласковые брызги На дне ушедшего пруда. А думал: нет к тебе следа!
Приди в наш лес, и мы с тобой... Сверкнут пусть молнии! Молчи! Ни слова! Пусть грянет гром! Раскатом рухнет снова! В душе пожар, погром, разбой! Я снова молод! Я с тобой!
Бурунов закончил, тряхнул локонами и вопросительно посмотрел на Надю. А Надя думала о своем, сокровенном. Опомнившись, сказала: — Как странно, вы еще такой молодой, а слагаете стихи о возвращении молодости, словно утратили ее. — Это перевоплощение поэта, — скромно заключил Бурунов. — А вот мой папа, может быть, на самом деле вернется молодым, а нас с вами через тысячелетие и помнить никто не будет. — Печальное заблуждение века! Былого, разумеется, — к радости Нади прорвало Бурунова. — Еще профессор Дингль задавал сторонникам Эйнштейна, зло высмеивая их, каверзный вопрос. Как может получиться такое? Два брата-близнеца разлетаются в космосе до световой скорости, один на космическом корабле, стартовавшем с Земли, другой — на земном шаре, который, по Эйнштейну, движется относительно космолета точно с такой же скоростью и может тоже считаться космическим кораблем. Каждый из этих во всем равноправных космических путешественников вправе считать себя достигшим световой скорости, когда время его остановилось, сохраняя его молодость, а брата своего безнадежно стареющим. Не значит ли это, что братья, встретясь вновь, одинаково повзрослеют и поймут всю абсурдность теории относительности и «парадокса времени». — Подождите! — обрадовалась Надя, что профессор Бурунов все-таки попался в ее трижды заброшенную сеть. — Насколько я знаю, Дингля опровергали утверждением, что брат на Земле летит равномерно, а брат на корабле — то ускоряясь, то замедляясь. Равномерные и ускоренные движения нельзя сопоставлять по теории относительности. — Чепуха! Формальный ответ. А я докажу, что если верить теории относительности, то после разгона корабля до световой скорости время на нем якобы остановится, а на Земле будут лететь тысячелетия. В полете требуется только год разгона с земным ускорением, год торможения с той же интенсивностью у другой планеты. И повторение маневра при возвращении. Наш космонавт только четыре года будет находиться в ускоренном движении, а тысячу земных лет он будет лететь с одной и той же световой скоростью, так же равномерно, как и земной шар. Так что извольте применить формулы теории относительности и к рассматриваемому случаю, без всяких отговорок, чтобы прийти в конечном счете к абсурду, ибо каждый из братьев будет настаивать, что он остался юным, а его брат и сверстник — давно забытым тысячелетие назад предком. Притом оба будут правы, поскольку никакого «парадокса времени» нет и каждый из них повзрослеет лишь на четыре года! Неожиданно Надя бросилась к Бурунову: — Константин Петрович, милый! Позвольте, я вас поцелую! Бурунов, который о таком мог лишь мечтать, оторопел. Поистине сердце девушки — загадка! При такой поэтической внешности для ее эмоционального взрыва, оказывается, требовались не стихи, а абстрактные рассуждения. — Это то, именно то, что я знала, в чем сомневалась и что хотела услышать! — задыхаясь, говорила Надя, поцеловав Бурунова в обе щеки. — Теперь ответьте на последний вопрос. Хорошо? — Хотел бы, чтобы мой ответ удовлетворил вас. — Скажите, Константин Петрович, вот вы, так уверенный в отсутствии «парадокса времени», вы... вы решились бы на полет с субсветовой скоростью? — Вы обезоруживаете меня. Но я хочу, чтобы вы оценили мою искренность, которая могла бы сказаться не только в этом ответе, но и в другом признании, о чем вы могли бы догадаться. — Да, я хочу, чтобы вы искренне сказали бы мне все... — О, тогда позвольте поцеловать вашу руку в знак всех владеющих мною чувств... Надя протянула Бурунову руку. Все-таки он вооружил ее. Бурунов галантно склонился, запечатлевая, пожалуй, несколько затянувшийся поцелуй. — Браво, браво! — послышался звонкий женский голос с другой стороны полянки. — Вот где я нашла эту воркующую парочку! Бурунов невольно отшатнулся от Нади, сделав вид, что он разглядывает свисающую с дуба ветку. — Эй, Звездочка! — крикнула Надя. — Не хочешь ли принять участие в нашем ворковании? У нас тут с профессором расхождение во мнениях. — Ах, поцелуйчики, начиная со щечек, ручек, называются «расхождением». А что же в таком случае «схождение»? Говоря это, Кассиопея, распустив смоляные волосы, перебегала лужайку, утопая по грудь в траве. В цветастом ярком платье, сама смуглая, она казалась легкой тенью, скользившей по цветной россыпи. По пути она срывала ромашки, прикладывая их к волосам. — Побереги «гороскоп», — крикнула Надя. — Не рви цветы, не рви! — Это не ландыши, которые расцветут лишь через три года и вы снова явитесь сюда за ними. На дно ушедшего пруда. Бурунов посмотрел на Надю и обратился к Кассиопее: — Если вы, милая Кассиопея, вспоминаете о дне ушедшего пруда, то должны были услышать и о теореме Ферма, и о теореме Крылова, и даже о «парадоксе времени». — Ничего я не слышала! Ни о каких теоремах! Хватит с меня университетской аудитории! Я просто нашла старую плотину, когда-то запруживавшую воду давнего ручья. — А незабудки остались, — заметил Бурунов. — Незабудки, незабудки! — передразнила Кассиопея. — Я вам никогда не забуду, Константин Петрович, что вы тайком от меня улетели в Абрамцево. — Почему тайком? Вы опоздали на взлетолет. Академик ведь болен. — Кстати, он спит. А если бы я действительно опоздала на все взлетолеты, то не нашла бы вас здесь в уединении. Я ведь на дельтапланах не летаю, как некоторые героини, — и она посмотрела в сторону Нади, добавив: — Но опоздать, видимо, могла! — Ну, Звездочка! Это уже слишком! — возмутилась Надя. — И совсем даже не слишком! Думаю, что и твой Долговязов тебя по рыжей головке не погладил бы. — Оставь Никиту, — отрезала Надя. — Пойдемте домой. — Правда, правда! — подхватил Бурунов, прекрасно поняв суть упоминания о Вязове, упрекнув при этом себя за необдуманную старательность в опровержении «парадокса времени». Должно быть, не зря его расспрашивала об этом Надя. Уберечь ее надо от Вязова, а не доказывать, что тот вернется к ожидающей его подруге. — Надо идти, — продолжал он. — Ведь мы с Надей обещали «исправиться» к ужину. И Наталья Витальевна ждать не умеет. — Это вы ждать не умеете, Константин, что означает постоянный, Петрович. Я теперь буду вас звать Зефир Петрович, в знак вашей ветрености! — А из тебя получилась бы недурная актриса, — заметила Надя. — А что? Недурно для лесной сцены? Но это еще не семейная сцена! Нет-нет, дорогой профессор! И не мечтайте! — злорадно продолжала Кассиопея, крепко ухватив Бурунова под руку. Когда они спускались по земляным ступенькам в овраг и перешли мостик, обогнавшая их Надя остановилась у старинного деревянного сруба. Здесь из нержавеющей трубки текла струя родниковой воды, которую поздний владелец аксаковской усадьбы, меценат Мамонтов, приказывал возить к себе в Москву в бочках. Надя, набирая воду полными пригоршнями, освежила лицо и, не вытирая его, обратилась к Бурунову, подошедшему с Кассиопеей: — Константин Петрович! А вы все-таки не ответили на мой последний вопрос. — Какой такой вопрос? — заинтересовалась Кассиопея. — Видите ли, — в замешательстве начал Бурунов. — Даже в наше время, не говоря уже о прошлых столетиях, высоко интеллектуальные атеисты не стеснялись своих суеверий и в известной степени порой щеголяли ими. Так, драматурги или актеры, уронив на пол рукопись, считали своим долгом с размаху сесть на нее, чтобы избежать провала спектакля. Смешно? Но укоренилось. Видные ученые, уходя из дому, при всей своей безбожности, стараются не возвращаться, не то «пути не будет», ссылаясь при этом на народную мудрость примет. — А что подскажет вам, соратнику академика Зернова, ваша научная мудрость при ответе на мой вопрос? — не отставала Надя. — Сказать по правде, мне не хочется лукавить перед столь обворожительной аудиторией. Сочтите это суеверием, как хотите, но мне не преодолеть предрассудка, не допускающего «тысячелетней разлуки» с современным человечеством. На ваш вопрос я отвечаю отрицательно! — Что такое? — воскликнула Кассиопея. — О чем это вы? — Я спросила Константина Петровича, решился бы он улететь на звездолете с субсветовой скоростью или нет? — Какой вздор, нелепица! О чем тут говорить? Я никогда бы этого не допустила! — заявила Кассиопея, еще крепче вцепляясь в руку Бурунова. — Не допустила бы, — повторила она. — И тебе не советую. Вот так! Если Бурунов в последний миг хотел заронить сомнение в душу Нади, то это ему удалось. Она шла с понурой головой. Для нее, будущего ученого, аргументы против «парадокса времени» звучали неопровержимо, но для нее же, как женщины, «суеверие» профессора было, пожалуй, убедительнее. Все трое уже молча взбирались по тропинке к даче академика Зернова.
|
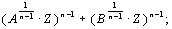

 a и b — любые натуральные числа; Zn = (az)n-1 + (bz); X = az; Y = bz; X, Y — будут целыми числами; и Zn = Xn-1 + Yn-1
a и b — любые натуральные числа; Zn = (az)n-1 + (bz); X = az; Y = bz; X, Y — будут целыми числами; и Zn = Xn-1 + Yn-1