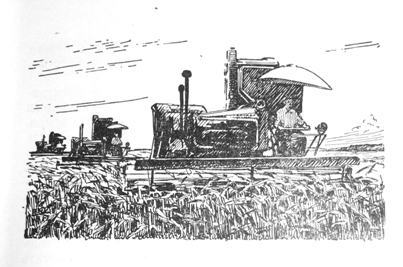Глава 1
«ПОЧТИ ВСЕ ДЕЛАЮТ ЗА НИХ МАШИНЫ...»
Машины полей коммунизма!
Что это? Мечта? Фантазия? Нечто далекое, еще неочерченное? Можно ли заглянуть в завтрашний день, увидеть их? Можно ли их вообразить сейчас, выдумать?
А если ничего не выдумывать?!
Если пристально оглядеться вокруг...
Протянулись через засушливые степи зеленые полосы дубков и кленов, пока еще похожих на кустарники, но которым суждено завтра прикрыть от суховеев плодородные поля коммунизма.
Гряды степных холмов превратились в берега Цимлянского моря, в котором встречаются ныне корабли из моря Черного и из моря Белого.
Входят в наше хозяйство орошаемые и электрифицированные поля, преобразованные великими стройками коммунизма, ждут освоения новые земли, обрабатывать которые придется не в какое-нибудь отдаленное время, а уже сегодня.
Взойдем на Крымский мост, оглядим Москву. За Кремлем скалистой вершиной поднялся на Котельнической набережной дом-великан — монументальная «черта» архитектурного облика Москвы завтрашнего дня. В самое небо устремил свою башню многоэтажный красавец на Смоленской площади, в кабинетах и залах которого будут работать люди, верша дела коммунистического общества.
Раскинулся на лесистом пьедестале Ленинских гор дом-город Московского университета. Прикрытый дымкой расстояния, и он словно смотрит из завтрашнего дня.
С того же Крымского моста увидел я однажды машины, которые тоже будто заглянули к нам из будущего.
Небо в тот ясный апрельский день было чистое, еще холодноватое, но солнце светило жарко. Снизу, с Москвы-реки, тянуло свежим ветерком от плывущих льдин, а спину припекало.
По мосту, взявшись за руки, шагали девушки и чему-то задорно смеялись. И веселее становилось на душе и от этого смеха и от весеннего воздуха. Казалось, что и дышишь легче и видишь дальше...
Я долго смотрел на гранитную набережную Парка культуры и отдыха имени Горького, на широкую его аллею, идущую от высокого остроконечного обелиска. Один за другим выезжали на нее черно-зеркальные «зимы», целая вереница их, с бумажными номерами «Интуриста» на стеклах.
Вдоль аллеи стояли ряды машин — светлая краска отливала голубизной, поблескивали гнутые стальные детали. Трудно было разглядеть устройство машин, видны были лишь их контуры. Я знал, что именно эти машины привлекли интерес наших иностранных гостей.
Это участники Московского международного экономического совещания, люди разных континентов, разных языков, разных политических убеждений. Это коммерсанты, владельцы фабрик и заводов, доверенные лица промышленных объединений, купцы, как многие из них называют себя. Бок о бок с ними — представители рабочих профессиональных организаций. Здесь люди с Запада и с Востока, из стран народной демократии и из стран капитала. Все они приехали сюда, объединенные общим желанием укрепить торговые связи между странами. И, главное, торговать мирно, без войн.
И они хотят знать, что за удивительные машины производят в Советском Союзе, машины, каких не найдешь ни в одной из стран Запада.
На обелиске надпись: «Выставка образцов сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, выпускаемых промышленностью СССР».
Я помню этот обелиск. Его поставили в дни Великой Отечественной войны, когда открывали на этих же самых аллеях парка совсем иную выставку, выставку трофейного вооружения, захваченного у гитлеровской армии.
Целехонькие угловатые «Мессершмитты» стояли тогда здесь смирно, распластав свои темные крылья с крестами. В ряд выстроились мрачные танки, закованные в размалеванную броню, устремив вперед торчащие стволы орудий, с шишками надульных тормозов.
И каких только пушек здесь не было! Длинноствольные и короткорылые, на колесах и на гусеницах, орудия легкие и орудия тяжелые. Дула их казались клыками, вырванными из пасти чудовища.
В павильонах — автоматы и минометы, реактивные снаряды, вылетающие с подставок-ящиков, и авиационные бомбы всяческих калибров.
Помню, долго бродил я тогда в промокшей шинели среди машин и орудий, снарядов и приборов, предназначенных разрушать, уничтожать, убивать.
А теперь я иду по широкой асфальтированной аллее и вместе с гостями смотрю на машины другие. Справа и слева одновременно затарахтели двигатели. Гости двумя группами окружили огромные машины с вращающимися в воздухе мотовилами, легкими барабанами с горизонтальными планками, которые кладут на режущую часть комбайна колосья за рядам ряд.
Здесь два зерноуборочных комбайна: слева — прицепной, справа — самоходный.
В дни уборки урожая мне приходилось проезжать через плодородные земли Крыма, Украины, черноземной полосы. Тысячекилометровой лентой пролегала автомобильная дорога среди желтых нив. В прежнее время в такие дни вое равнины тут пестрели рубашками и платками. И как мало людей встретилось мне сейчас на полях! Да и машин было мало. Лишь изредка попадались на глаза комбайны, иной раз — у самой дороги, порой — на горизонте. Но на шоссе было тесно. Груженные зерном автомашины шли нескончаемой вереницей. И казалось, что хлеб этот сняли не здесь, а везут откуда-то издалека. А между тем какой-нибудь день назад зерно это стояло тут на корню. И сняли его, оказывается, те самые редко встречавшиеся мне комбайны, каждый из которых убирает за сезон по тысяче гектаров. Только в послевоенное время пришло таких машин на наши поля 146 тысяч, снимают они 75 процентов всего урожая страны.
Еще больше механизирована у нас обработка земли. Орудия для этой цели не только помощники людей, но и «помощники плодородия». Они так возделывают землю, что она начинает дарить щедрее. Советский плуг не просто пашет землю, он «формирует», «конструирует», «омолаживает» ее.
Гости осматривают многокорпусный плуг, который оставляет за собой вспаханную полосу, едва ли не с улицу шириной. Перед каждым лемехом — предплужник, «плужок плодородия», осуществляющий фантастическую задачу перемены местами пластов земли.
Вот культиваторы всех систем, целая армия «железных нянек», ухаживающих за растениями, уничтожающих сорняки.
Француз рассматривает гигантский плуг, лемех его похож на рыцарский щит. Это универсальное орудие для виноградарей. На юге Франции очень заинтересуются им. Можно производить и культивацию, и рыхление почвы, и пахоту.
Более трех миллионов почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин и орудий пришло на наши поля после войны. Почти вся пахота и три четверти сева были механизированы у нас уже к концу первого года пятой пятилетки.
По другую сторону аллеи, напротив плугов и культиваторов — сеялки.
Это двуколки неимоверной ширины. И они словно катятся на целой батарее колесиков — разрыхляющих дисков, между которыми льются струйки зерна.
Сцепки таких сеялок, по три, по пять, идут за одним трактором, заменяя сотни былых сеятелей.
Не только зерновые, но и другие культуры, а также и травы высеваются у нас с помощью сеялок.
Зерноуборочные и посевные машины гости, может быть, видели и у себя на родине. Встреченные здесь машины могли поразить их производительностью и размахом применения. Но вот группа гостей останавливается перед машиной, о которой они даже и не слыхали.
Она должна идти за трактором. Телескопический, раздвигающийся вал передает вращение от мотора трактора хитрым механизмам, скрытым за щитами кожуха. Поставленные на ребро бесконечные ленты семью дорожками спускаются к земле.
Эта машина не косит, не жнет, не выкапывает. Она выдергивает из земли растения.
Как? Неужели лен?
Да, это первый в мире льноуборочный комбайн. Мы стремимся механизировать все области сельского хозяйства. И механизировать притом сразу на высоком техническом уровне. Уборочная машина должна быть вседелающей машиной — комбайном. Здесь на выставке можно увидеть и свеклоуборочный комбайн — странную машину, похожую на ящера, изогнувшего панцырную спину. Этот комбайн заменяет в поле десятки человек. Он не только выкопает и подберет свеклу, он оставит в поле кучки очищенных от земли корнеплодов и собранную в копны ботву.
Вот картофелекопалка. Но она уже не удовлетворяет советских людей. Они создают картофельный комбайн.
Посетителям выставки можно было бы рассказать и о других комбайнах, создаваемых в Советской стране. Почти все за людей должны делать машины.
Внимание гостей привлечено универсальной мельницей для зерна и сена, стоящей рядом с соломорезкой. В больших хозяйствах очень выгодно механизировать все звенья. Наше сельское хозяйство будет механизировано комплексно. Не должно остаться ни одной трудоемкой операции в сельском труде, которую не выполняла бы машина, управляемая культурным, квалифицированным человеком, крестьянином нового склада.
Задерживаюсь на миг у пьедесталов с гусеничными гигантами Кировского завода в Челябинске. Это могучие машины. Десяток старых колесных тракторов нужно было запрячь, чтобы сравнялись они с одним кировцем. Только социалистическое государство могло себе позволить произвести миллиардные затраты, чтобы заменить сотни тысяч старых колесных тракторов новыми гусеничными, подняв тем механизацию сельского хозяйства на новую ступень.
Группы гостей осматривают самоходную косилку, которая, расправив свои ножи-крылья, захватывает сразу 10 метров. Она может за один час скосить траву на 5—6 гектарах. Сгребают за ней сено гигантские грабли с чуть ли не 15-метровым захватом.
Конечно, такие машины нужны только очень богатым хозяйствам, владеющим такими угодьями, на которых есть где развернуться подобным машинам. Но именно таковы наши укрупненные коллективные хозяйства.
Какие же вилы нужны, чтобы подобрать горы скошенного за считанные минуты сена? Вилы-великаны, закрепленные впереди трактора, — тракторные волокуши. Они подбирают с земли сразу стог сена весом до 1 000 килограммов.
Вместо волокуши по полю может пройти пресс-подборщик. Он на ходу заберет сено и тут же спрессует его в аккуратные тюки.
Задерживаются гости и около хлопкоуборочной машины. Это «умная», «чувствующая» машина. Она ощупывает кустарник и собирает хлопок только из раскрывшихся коробочек.
Множество таких машин работает на наших хлопковых полях. Нужно справиться с гигантским урожаем: только в пяти наших республиках — Узбекской, Казахской, Киргизской, Туркменской и Таджикской — хлопка выращивают столько же, сколько получают его в Индии, Египте, Иране, Турции и Афганистане, вместе взятых.
— Даже леса сажают машинами! — восклицает один из гостей.
Да, у нас сажают леса на тысячи и тысячи километров. Для людей, привыкших к уничтожению лесов, это кажется поразительным. В Дании вырубили дубовые рощи, и Ютландский полуостров покрылся слоем аля — связанного железом песчаника, не дающего растениям развиваться. Унылы там сухие степи, покрытые жестким вереском. В Америке из-за хищнического уничтожения лесов ветер унес верхний слой почвы с миллионов акров земли, и, вчера еще плодородные, они превращаются в изрезанные оврагами пустыни.
Мы же сами наступаем на мертвые земли, меняем облик их. Приводим воду в пески за тысячи километров, защищаем степи лесами, выращиваем на обновленной земле невиданные урожаи. Отводим воду из болот, прорывая машинами рвы, прокладывая в почве трубы-норы, чтобы превратить болота в цветущие поля.
И канавокопатель, похожий на гигантский плуг, и непостижимо простой подземный снаряд «стальной крот», со скоростью пешехода движущийся в глубине земли, — все это может собственными глазами посмотреть каждый из гостей.
Вслед за гостями иду я по рядам машин, и передо мной словно проходят разные области сельского хозяйства, различные края, где растут северные сорта льна и южный хлопок, где пшеницу после уборки просушивают и где машины прокладывают каналы для орошения. Рис и конопля, рожь и виноград — все несчетные сельскохозяйственные культуры нашей страны возделываются с помощью машин, применяемых всюду — от районов вечной мерзлоты до субтропиков.
И недаром гости со всего мира так пристально рассматривают наши машины. Каждый из них найдет здесь полезное для своей родины, передовое, неизвестное ни в одной стране мира.
В некоторых из этих стран видели наши машины полей. Их показывали на выставках в Бомбее, в Париже.
Французские газеты писали тогда:
«...удивление не перестает расти...», «...советские сельскохозяйственные машины у Версальской заставы — самые современные и самые мощные!», что они «гвоздь выставки!», что они «показывают, какие грандиозные перспективы открывают социалистические советские преобразования».
В дни XIX съезда партии мне вспомнились иностранные гости на нашей выставке сельскохозяйственных машин, гости из Франции и Италии, из Индии и Ирана. Они вспомнились в связи с сопоставлениями, которые сделал товарищ Берия. Ведь предприятия одной только Украины производят тракторов по мощности почти в три раза больше, чем во Франции и Италии, вместе взятых. В Узбекистане, где сельское хозяйство до революции было отсталым, на каждой тысяче гектаров работает теперь 14 тракторов, в то время как во Франции — лишь 7, а в Италии — только 4, да и то значительно меньшей мощности. Если же сравнить тот же Узбекистан со странами Востока, то, вместо 70 гектаров посева на один наш трактор, в Пакистане на один трактор приходится 9 тысяч гектаров, в Индии — 13 тысяч гектаров, а в Иране — 18 тысяч гектаров посева.
Так выглядит сравнение наших республик со странами капитализма.
Я вдумываюсь в слова товарища Сталина: «...нигде так охотно не применяются машины, как в СССР, ибо машины сберегают труд обществу и облегчают труд рабочих...», и пытаюсь представить себе рассеянные по всей нашей стране 673 тысячи тракторов, 3 миллиона всевозможных машин и орудий, возделывающих нашу землю, представить всю эту армию машин, изменивших ныне самую сущность крестьянского труда.
— Двадцать лет назад у нас в районе, — говорил мне знатный агроном Павел Никанорович Сергеев, — на каждого работающего приходилось по два гектара, а теперь — тридцать-сорок гектаров. И поля обрабатываем лучше прежнего, и молодежь на новые заводы отпускаем, и стройкам коммунизма помогаем.
Звездой Героя Социалистического Труда и золотой медалью Сталинской премии отметила родина заслуги этого агронома — заведующего отделом сельского хозяйства Ново-Анненского района Сталинградской области.
— Машины сделали нас сильнее, машины, — утверждает он. — С ними легче стало работать, веселее.
Светлые умы прошлого пытались заглянуть в наши дни — Белинский, Пушкин, Чернышевский... Это о наших днях, о наших нивах взволнованно рассказывал Чернышевский, удивляясь, как быстро и весело идет у людей работа на полях. «Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! — восклицал он. — Почти все делают за них машины, — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только... управляют машинами».
Сто лет назад... да и сорок лет тому назад это было мечтой.
А в наши дни исполнение этой мечты предопределяют деловые строки решений XIX партийного съезда:
«Завершить механизацию основных полевых работ в колхозах, широко развернуть механизацию трудоемких работ в животноводстве, овощеводстве, садоводстве, работ по транспортировке, погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции, по орошению, осушению заболоченных угодий и освоению новых земель».
И завтра еще больше машин появится на наших полях.
К 1955 году различные отрасли сельского хозяйства будут механизированы на 80, 90 и 95 процентов.
Почти в полтора раза больше продуктов даст народу к концу пятой пятилетки наше сельское хозяйство, в полтора раза щедрее рожать станет земля, в полтора раза прибавится силы у тружеников полей, прибавится благодаря машинам, тем самым машинам полей коммунизма, которые помогут сделать труд человека, как говорил Энгельс, наслаждением.
Машины эти, чтобы работать им на полях завтрашнего дня, должны быть созданы и создаются сегодня. Их можно увидеть, заглянув через плечо конструктора на чертежную доску, можно увидеть, войдя в лабораторию ученого, задумавшего смелый опыт, встретить в экспериментальном цехе завода или, наконец, на полях наших укрупненных колхозов, где на бескрайных пашнях, нивах и угодьях машины небывалой производительности получили нужный им простор.
Это машины нашего времени.

след.