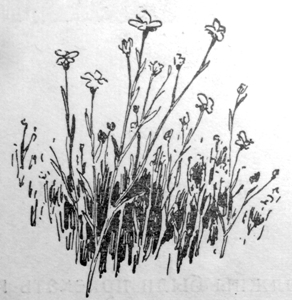Глава 3
ИСТОРИЯ ЧЕРТЕЖА
Как же и кем создаются машины полей коммунизма?
Как возникает идея машины будущего, ее чертеж?
Плод ли это вдохновения, осенившего изобретателя, случайное ли открытие нового принципа?
Возьмем же в руки чертеж одной из лучших советских машин — льноуборочного комбайна, чертеж машины, которой еще не знала история механизации сельского хозяйства.
Исторические документы говорят, что эта механизация зарождалась в России.
Именно в России в шестидесятых годах прошлого века появился первый комбайн Власенко. В том же прошлом веке построен был Блиновым и первый трактор.
Тогда же при Петровско-Разумовской академии была создана кафедра сельскохозяйственных машин, во главе которой стал выдающийся механизатор профессор Горячкин. Соратник академика Вильямса, он боролся за машину в русском сельском хозяйстве так же, как боролся Вильямс за научное земледелие.
Возделывая землю, даже древний земледелец был вооружен. Он ковырял ее примитивным, но все же орудием — сохой; он жал хлеб серпом, прообраз которого находят при раскопках древних городищ; он молотил цепом, рисунки которого встречаются на памятниках древнего Египта.
Развивалась техника, человек создавал себе машины. В сельском хозяйстве машины сеяли, убирали, обрабатывали по преимуществу зерновые культуры.
А вот лен, издревле одевавший людей, этот лен, как извлекался из земли руками людей племени «неприкасаемых» в Индии, как вытягивался из почвы руками подвластных средневековому рыцарю крестьян, как теребился руками русских крепостных, так теребится и по сей день француженками и голландками, немками и американками.
Рука захватывает пучок льна и вытягивает его из земли. Стебли скользят в зажатой ладони, натирают мозоли. Эти мозоли становятся кровяными. Страшно смотреть на руки труженицы, теребящей лен.
Лен нужно чесать, снять с него головки с семенами. Мельчайшие пылинки носятся в воздухе. Удушливый кашель сотрясает все тело, кажется, что человек не может здесь дышать.
Но человек все-таки дышит. Быстро работают женские руки, мелькают в пыльном воздухе гребни...
Перед нами чертеж современной советской машины, которая вместо человека делает все тяжелые операции: теребит лен, на ходу очесывает его, вяжет льносолому в снопы, сбрасывает их на поле, насыпает в мешки очесанные головки льна.
Как же рождалась эта машина, как создавался этот аккуратно сделанный чертеж?
В сельском хозяйстве — сотни растительных культур, имеющих свои особенности, тысячи операций, которые должны выполняться машинами. Конструктору каждый раз приходится решать задачу по-новому, часто впервые. Его машина должна сделать переворот в той области, в какой призвана работать, и в то же время эта машина должна быть предельно дешевой. Она должна быть тончайшей по замыслу и простой по выполнению. Она должна все делать за человека и не требовать от человека почти ничего.
Все эти задачи стояли перед конструкторами льнокомбайна.
Перед нами первые его схемы. Двадцать лет назад, в 1932 году,, их было предложено две: одна — опытным конструктором Шлыковым, другая — молодыми инженерами Маятом и Моисеевым.
Как мало походят эти схемы на наш чертеж! Немудрено, что сделанные по ним механизмы работали плохо.
Впереди машины двигались «делители» — металлические клинья, которые должны были разделять лен на потоки, попадающие потом между теребильными лентами. Однако клинья были сделаны столь неудачно, что подминали лен, вместо того чтобы его разделять.
Извлекать лен из земли, по замыслу конструкторов, должны были «бесконечные» теребильные ленты, надвигавшиеся на лен следом за делителями. Поставленные на ребро, наклоненные к земле, они попарно прилегали друг к другу, захватывая лен, на который наезжали. Сами же ленты прилегающими сторонами бежали не по ходу комбайна, а назад, и как раз с той же скоростью, с какой двигалась вся машина.
Таким образом, части лент, захватившие пучок льна, не перемещались относительно льна ни вперед, ни назад. И пучок льна не сдвигался бы с места, если бы зажавшие его ленты не были наклонены. Благодаря же этому наклону, место, где зажат был пучок, по мере движения комбайна вперед оказывалось все выше и выше. И лен должен был выдергиваться.
На самом деле, к огорчению конструкторов, это было далеко не так: лен проскальзывал, и теребления часто не получалось.
Выдернутый лен плохо доставлялся транспортером к очесывающему устройству. Словом, в задуманном комбайне все части были так еще несовершенны, что решено было вначале заняться механизмами теребления льна.
Опытный конструктор Шлыков и молодые инженеры Маят и Моисеев стали работать вместе над созданием льнотеребилки.
Этой проблемой занялся и Научно-исследовательский институт льна. Инженер Сиваченко совместно с группой конструкторов проектировал весьма оригинальную льнотеребилку. Чтобы избежать проскальзывания льна между лентами, нужно было добиться у теребильных лент плотного прилегания друг к другу ремней, которые в работе скоро вытягивались. А что, если натягивать эти ремни на криволинейной поверхности? Этим всегда будет обеспечено плотное прилегание ремней друг к другу. В самом деле, сложите вдвое ремень и растягивайте его. Плотность прилегания частей будет невелика. Но натяните ремень на колене, и вы почувствуете, как плотно прильнут они друг к другу на выпуклой поверхности. Так появилась идея криволинейного ручья в теребильном устройстве, то есть такого расположения теребильных лент, чтобы они прилегали друг к другу по кривой поверхности.
Шлыков, Маят и Моисеев тоже увлеклись криволинейным ручьем. Но чтобы сравнить эти два принципа, решили сделать такой ручей лишь в половине секций, а остальные — с прямолинейными теребильными лентами.
Криволинейный аппарат, вопреки ожиданиям, работал плохо. Прямолинейный — лучше, но тоже был далек от совершенства.
Маят и Моисеев решили строить льнотеребилку с пятью прямолинейными ручьями. Шлыков спорил, но вынужден был уступить, передав руководство конструкторской группой Маяту.
Новая льнотеребилка была построена весной 1934 года. Нужно было ее испытать, но не ждать же для этого осени! Надо найти лен, который поспевает в мае.
И конструкторы вместе со своей льнотеребилкой отправились к знойным берегам Каспия, в Ленкорань, чтобы испытать ее там, а осенью, на севере, успеть еще раз проверить уже подправленную машину.
В Ленкорань поехала и конструкторская группа из Института льна.
Сколько труда, выдумки, бессонных ночей, проведенных над чертежами или в экспериментальном цехе, сколько страстной преданности делу и, если хотите, честолюбивых надежд ставилось сейчас на карту! В производство будет принята только одна конструкция, лучшая. Другая будет отвергнута.
Нам знакомы творческие конкурсы.
Музыканты-виртуозы сменяют друг друга на эстраде. Лучшим присуждаются премии. Народ знает, любит и тех, кто получил первую премию, и тех, кто получил вторую или пятую.
На негласном конкурсе, за которым не следили по сообщениям газет миллионы людей, на конкурсе, проходившем на льняном поле, у каспийских берегов, одна группа конструкторов должна была выйти победителем, другая — забросить на пыльную полку эти чертежи, каждая линия в которых обдумывалась долгие часы, вычерчивалась с любовью, а иногда — после горячих споров. Никто не вспомнит уже отвергнутой конструкции; никогда не воспользуются этими чертежами в цехах, не покроются они масляными пятнами, не износятся в изгибах, не будут перепечатываться, не будет на заводских чертежах подписи создателей машины...
Соревнование на ленкоранском льняном поле было нисколько не менее страстным, чем любое другое, хотя напряжение борьбы внешне, может быть, и не проявлялось. При встречах соревнующиеся любезно раскланивались, жаловались на жару, нехотя интересовались, как идет работа, и получали «исчерпывающий» ответ: «Ничего».
Жара; в мае там действительно была изнуряющая. В промежутках между испытаниями инженеры и их помощники, слесари, бежали к реке.
Маят, в первый раз влетев в реку с размаху, едва не выскочил обратно. Он еще «а берегу заметил на поверхности воды темное пятно с двумя дырками. Когда же он с криком, разбрызгивая воду, приблизился к нему, оно засопело, стало подниматься. Появилась темная морда, загнутые рога, мохнатое туловище буйвола, который прятался от жары под водой...
С испытаниями торопились. Обе группы хотели поскорее внести изменения в конструкцию, чтобы осенью, в последнем туре соревнования, победить окончательно.
Лен был еще зеленый. Почва плотная и вязкая. Выдергивать лен из такой земли было очень трудно.
Машины испытывались далеко друг от друга. О ходе испытаний инженеры узнавали вечерами у слесарей, которые помогали и той и другой конструкторской группе.
Моисеев, Маят, Шлыков с волнением опробовали свою теребилку. Поначалу она работала хорошо, славно теребила лен, но... через сотню метров ее приходилось останавливать. Вытягивались ремни, между ними набивалась трава.
Что делать? С криволинейным ручьем такая беда бы не случилась, напоминал Шлыков. Но надо было искать выход.
Конечно, и прямолинейную ленту можно натягивать. Для этого существует натяжной ролик. По мере ослабления ленты его отодвигают. Но при этом увеличивается расстояние между ним и неподвижными, поддерживающими роликами. Ленты там прилегают менее плотно, и в увеличенный промежуток набивается трава.
Вот если бы натягивать ремень, перемещая сразу и первый и второй ролики! Молодые инженеры ухватились за эту мысль. Сразу перемещать не один, а два ролика... Три! Нет, сразу четыре!
Слесарь Павел Иванович Калинин взялся переделать теребилку на месте. Искусный слесарь в те дни один заменил целый экспериментальный цех. Лента натягивалась теперь движением сразу четырех роликов, расстояние между которыми не изменялось. Машина дошла. Конструкторы бежали за «ей по полю. 50 метров, 90 метров... 100! Молодые люди не замечают жары, пот льется со лба на глаза, каплями стекает по щекам.
150 метров! 200! Дыхания уже нехватает, сердце колотится.
Стоп!.. Между четвертым движущимся и пятым неподвижным роликами снова плотный ком травы.
Тяжело дыша, молча стоят инженеры у своей снова отказавшей машины. На горизонте движется льнотеребилка с кривым ручьем.
Как-то там?
Слесарь внимательно смотрит на машину.
— Надо бы и пятый ролик сделать подвижным, — предлагает он.
Всю ночь инженеры работали подручными у слесаря, переделывая льнотеребилку.
А утром машина переродилась. Уже давно остановились, в изнеможении упали на землю молодые люди. Смотрели на безоблачное, словно покрытое эмалью, небо и смеялись.
Льнотеребилка где-то далеко развернулась и пошла к ним. За нею лентой расстилался лен.
Проходил час за часом, а льнотеребилка все работала и работала, почти не останавливаясь. Это уже была большая победа! Пусть волнуется Сиваченко! Он все узнает! Разве удержишь буйную радость, веселье, смех? Тут без чертежей все ясно...
Но снова беда. Сноповязальный аппарат, если его включить, отказывает.
Сиваченко прислал своих помощников с фотоаппаратом. Он хотел заснять «работающую победительницу», но заснял снова разобранную машину.
Выключить сноповязальный аппарат! Пусть машина расстилает лен лентой! Важно главное — лен выдернут из земли!
Так решают Маят и Моисеев. И машина убирает во время испытаний 18 гектаров.
Невиданная производительность!
Маят, Моисеев и Шлыков торжествуют. Они вышли почти победителями.
Сиваченко повез свою «криволинейку» в переделку.
Теперь машины встретятся на подмосковных полях.
* * *
Маят, Моисеев и Шлыков не выходили из экспериментального цеха. Они были уверены в победе.
Осенью ленкоранская машина и вторая, улучшенная, построенная по ее образцу, выехали на испытания в Волоколамский район.
Ленкоранская «победительница» справилась с 20 гектарами.
А вторая машина, более совершенная, убрала на полях 12 колхозов 60 гектаров. Она безотказно работала по два часа подряд!
Конструкторам, привыкшим к остановкам через каждые пять-семь минут, это казалось невиданным достижением. Но колхозники сразу подошли к полезной машине по-хозяйски и предъявили свои требования. Им в поле во время уборки работать не два, а все десять часов, и в течение всего рабочего дня они хотели убирать лен, а не подправлять машину.
А криволинейная конкурентка все еще «тянулась», тоже теребила лен, хотя и не показывала таких результатов.
Первые 50 льнотеребилок было решено сделать по типу машины Маята, Моисеева, Шлыкова.
Конструкция машины уже была отработана, но технологически она еще не была совершенной, изготовлять ее на заводе было неудобно, детали нужно было менять, упрощать.
Маят две недели не покидал цеха Люберецкого завода. Не отставал от товарища и Моисеев. Скоро все заводские конструкторы пришли на сборку. До глубокой ночи работали они с гаечными ключами в руках. Нужно было во что бы то ни стало выпустить серию машин к сезону уборки.
Задание выполнили. Машины были направлены в колхозы Калининской области. Все заводские конструкторы разделились на группы, каждая из которых взяла под наблюдение четыре-пять льнотеребилок.
Инженеры успевали во-время приходить на помощь колхозникам. И машины работали безотказно, убирая по 60 гектаров.
Осенью «теребильщики», — не было раньше такой профессии среди механизаторов, — собрались на собрание в Калининском обкоме партии.
Колхозники в один голос высказались за новую машину: «Берет любой лен, и низкий и с сорняками. Прекрасная машина. Но вот сноповязальный аппарат надо выбросить, только мешает».
Так и было решено. Машина в этом виде принималась самыми строгими испытателями — колхозниками. Казалось, можно было бы праздновать победу. Но сделать полсотни образцов — это еще четверть дела. Теперь надо освоить серийное производство. К тому же конструкторы — беспокойный народ. Разве они остановятся на достигнутом! Им уже мало пяти пар теребильных лент. Они хотят сделать семь!
В 1937-году был выпущен образец семисекционной машины.
И снова встретилась на поле машина Маята, Моисеева и Шлыкова с конкурирующей, отстающей, но никак не сдающейся «криволинейкой» Института льна.
Семь ручьев говорили сами за себя. «Криволинейка» выглядела кустарной. Казалось бы, теперь и радоваться Маяту и Моисееву, но они ходили мрачные, хмуро принимая поздравления. Только они одни заметили, что рама, несущая на себе не пять, а семь секций, гнется. Она слаба! Завтра, при продолжении испытаний, это выяснится, и машина будет забракована. Победит «криволинейка», хоть она и уступает в производительности.
Маят помчался на завод. Никто не заметил его отсутствия. На заводе под его руководством до позднего вечера сваривали усиленную, более прочную раму.
Ночью, в темноте Маят привез новую раму. Никому из членов комиссии утром и в голову не пришло, что они испытывали, по существу говоря, уже измененную машину.
Но эта законченная ночью в поле конструкция и была той, которая была нужна Советской стране. Свыше 17 тысяч льнотеребилок выпущено уже по сей день.
Но для Маята, Моисеева и всегда спорящего с ними Шлыкова новая машина была всего лишь шагом на избранном ими пути.
Конструкторы давно уже занимались комбайном для уборки льна, который не только теребил бы лен, но и очесывал его, вязал бы льносолому в снопы, предельно облегчая труд людей.
Работая над льнотеребилкой, конструкторы не переставали трудиться и над комбайном, но пока что на чертеже будущей машины четко вырисовывалась лишь теребильная часть.
Как же очесывать лен? Конечно, гребенками. Они должны двигаться друг за другом, закрепленные на бесконечной цепи. После того как они очешут головки, на пути им встретится какой-нибудь скребок, который очистит гребенки.
Много неприятностей доставила конструкция транспортера. Из теребильной части лен выходит в вертикальном положении. Надо ли его класть на бегущую горизонтальную ленту, или придумывать транспортер, стоящий на ребре?
Наконец — сноповязальный аппарат...
Постепенно отдельные узлы будущего комбайна приобретали право на жизнь. Работало и очесывающее устройство, работал и поставленный на ребро транспортер, к которому пружинами прижимались стебли льна, действовал и сноповязальный аппарат. С ним оказалось меньше хлопот, потому что он имел дело с льносоломой, у которой не было сцепляющихся головок, как у льна.
Комбайн работал. Теребильная часть у него состояла из пяти секций. Конструкцию эту, отнявшую столько сил, можно было уже предлагать для государственных испытаний.
Но к этому времени появилась семисекционная льнотеребилка.
Не может же новый комбайн обладать меньшей производительностью!
И конструкторы решают изготовить комбайн тоже с семью теребильными секциями и только после этого представить его государственной комиссии.
Такой комбайн был сделан.
И тут конструкторов ждал неожиданный удар.
Комбайн не работал. Все детали и механизмы, прекрасно служившие при пяти секциях, сейчас ломались, останавливались, оказывались никуда не годными.
В чем дело? Как это могло быть? Ведь работало же вое, работало!
И начались ожесточенные споры. Огорчение переходило в раздражение, раздражение — в ссору. Но вместе с тем творческая мысль стремилась к обобщающим выводам.
— Детали надо делать крепче — тогда не будут ломаться!
Что может быть проще такого решения?
— Механизмы надо рассчитать на большую «производительность и для этого увеличить их размеры.
— Нет! Неверно! Нужно пересмотреть все, все!..
— Ну, уж это почти паника. Почему все?
— Потому, что помочь в нашем деле может только... диалектика!
Нужно было решить основной вопрос: можно ли безгранично увеличивать производительность машины, только изменяя ее размеры, умножая число ее рабочих органов?
Бесспорно, до какого-то предела это было так. А дальше?
Не потребует ли дальнейшее увеличение количества качественного скачка? Не нужно ли искать для навой производительности новых принципов действия каждого механизма?
Да, в какой-то мере это было так.
Чтобы построить льнокомбайн, рассчитанный на более высокую производительность, нужно конструировать некоторые его рабочие органы совсем по-новому!
Маят и Моисеев страстно убеждали в этом Шлыкова.
— Философия машины!.. — иронически говорил тот отмахиваясь.
Но скоро и он понял правоту своих более молодых товарищей и сам увлекся новым подходом к конструированию.
— А ведь верно! Не только утолщением рычагов надо заниматься...
Любопытно проследить, как на протяжении всего времени создания машины менялись отдельные ее части, как искали конструкторы новых и новых решений. Очесывающее устройство. Как добиться, чтобы при большой производительности комбайна головки льна не отрывались? Не в том ли беда, что гребенка захватывает сразу всю головку? Вот если бы она делала это осторожно, нежно, как бабушка расчесывает спутанные кудри внучонка.
Шлыков предлагает поставить гребенки наклонно. Пусть они начинают очесывать лен своей приподнятой частью, захватывая только самый верх головки. Потом лен подвинется и к более опущенной части гребенки, и она войдет в головку глубже. Прошла — снова подвинулся лен. Наконец гребенка берет головку под самое основание. Но уже «расчесаны «кудри», теперь их уже не вырвет «нежная» рука машины.
Маят предлагает ставить гребенки не на цепи, а на барабане. Для того чтобы они всегда оставались параллельными самим себе, он придумывает хитрое — «планетарное», как он говорит, — устройство. Гребенки в машине будут двигаться так, словно их действительно держит ласковая рука.
Быстро движущиеся гребенки надо будет и очищать быстро, а главное — очищать полностью, чтобы они не возвращались засоренными. Конструкторы и тут находят выход. Вращающийся барабан с резиновыми лопастями будто мягкими лапами на мгновение касается гребенок, снимая, с них продукты очеса.
Все это нужно было изобрести, все это нужно было сделать, опробовать, снова изменить, скомпоновать!..
Лишь в 1939 году вышел ,из цехов обновленный льнокомбайн. Он с честью выдержал испытания. Все его рабочие органы служили исправно: и теребильная часть, и стоящий на ребре транспортер, и очесывающее устройство, и сноповязальный аппарат.
Два льнокомбайна выпуска 1939 года убрали по 37 гектаров.
Три машины 1940 года убрали уже по 53 гектара.
В 1941 году на полях должно было работать 20 машин. Но они так и не вышли из заводских ворот. Началась война.
Конструкторов комбайна давно уже не видели за соседними столами. Маят стал главным конструктором завода, Моисеев — главным технологом, потом начальником отдела технического контроля. Шлыков работал в научном институте, ведя там исследовательскую работу, связанную с льнокомбайном.
Только в 1946 году смогли конструкторы снова заняться льнокомбайном. Удалось закончить две машины, готовившиеся в 1941 году.
В 1948 году окончательно был готов чертеж, который положили мы перед собой в начале главы. Это чертеж «вседелающей машины». Она пройдет по льняному полю и оставит после себя на земле аккуратные снопы льносоломы и мешки с очесанными головками.
Чертеж размножен, разослан по заводам. Новая машина вышла уже на поля многих льноводческих колхозов.
Высокая награда — Сталинская премия присуждена А. С. Маяту, А. С. Моисееву, М. И. Шлыкову — создателям замечательной машины, не имевшей предшественников ни у нас, ни за границей.
Где же те, кто подписал чертеж?
Старейший из конструкторов М. И. Шлыков преподает в вузе, готовит новую армию конструкторов!. Немало интересных случаев из своей конструкторской практики расскажет он студентам!
А. С. Маята мы находим в кабинете директора ВИСХОМа — Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения. Он руководит сейчас созданием десятков новых машин, которые завтра выйдут на поля коммунизма.
Нынешний директор ВИСХОМа вспоминает о пятнадцати годах, посвященных льнокомбайну, как о счастливейших в своей жизни.
Так же оживляется, вспоминая о льнокомбайне, и А. С. Моисеев.
— Мы, — говорит он, — рассчитывали льнокомбайн на производительность в четыре гектара в день. Льноводы полюбили нашу машину, показывают на ней чудеса,-умудряются убирать не четыре, а восемнадцать гектаров в день! Начиная работу над комбайном, мы даже и не смели мечтать, что он заменит в поле шестьдесят человек. Однако мало сделать только одну конструкцию машины. Мало применить комбайн во многих льноводческих колхозах. Девятнадцатый съезд партии указывает, что к концу пятилетки до девяноста процентов всего урожая льна-долгунца должно убираться машинами. Дело теперь за заводами.
Междугородная телефонная станция на время прерывает нашу беседу, происходившую в кабинете заместителя министра сельскохозяйственного машиностроения СССР А. С. Моисеева. Он-то непосредственно и руководит теперь этими заводами.
Окончив телефонный разговор с производственниками, заместитель министра с увлечением говорит о машинах полей коммунизма, которые приблизят сельскохозяйственное производство к индустриальному, к производству с машинным ритмом, построенному на поточном методе, к передовому коммунистическому производству.