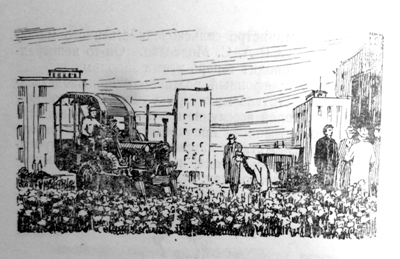Глава 4
МАШИНЫ И РОБОТЫ
На завод должны были приехать гости из страны народной демократии.
Двор завода необычайно преобразился. За ночь на каменных плитах двора «выросла» хлопковая аллея. Рабочие останавливались около «кустов хлопчатника», внимательно рассматривали макеты раскрывшихся и еще не раскрывшихся коробочек.
— Да в них вата! — радостно воскликнул ученик ремесленного училища, решивший проверить «хлопок» на ощупь.
— Машина тоже на ощупь берет, — смеялись рабочие.
Аллея хлопчатника опустела. На ней остались только инженеры из конструкторского бюро, в последний раз обходившие «хлопковое поле». Они заботливо осматривали коробочки, похожие на бутоны огромных цветов. В «бутонах» действительно была заключена обыкновенная вата.
Со стороны проходной показалась группа людей в широких светлых пальто и мягких шляпах.
Гостей сопровождал директор завода. Он говорил, обращаясь к главе делегации:
— Вот условное хлопковое поле, товарищ министр. Здесь и покажем работу машины.
Немного отстав от группы гостей, шли два очень непохожих друг на друга человека. На одном из них, сутулом и длинном, пальто сидело горбом. Его свисающие вниз, огромные, натруженные работой руки и загорелое, обветренное лицо с морщинами, похожими на крупные складки, выдавали крестьянина, привыкшего к труду и нелегкой жизни.
Второй — тяжеловатый, но с лицом, сохранившим прежнюю худобу, пожалуй, напоминал заводского человека, мастера или квалифицированного рабочего. В глаза бросался пустой рукав, засунутый в его правый карман.
Первый действительно был крестьянином, а вернее сказать, батраком, который никогда в жизни не имел своего хозяйства. Тридцать пять лет он ездил на чужих лошадях, пахал чужим плугом чужую землю, снимал и обмолачивал чужой хлеб, спал в чужом доме, своими руками по-хозяйски убирал чужой двор.
Собственная земля, лошадь, плуг, дом — все это было предметами его зависти и мечты. Со временем мечта стала казаться неосуществимой.
И вот свершилась великая перемена. Его страна была освобождена победоносной Советской Армией, рвущейся к границам гитлеровской Германии. Изумленно и недоверчиво смотрел батрак на советские танки, на могучие орудия, на грузовики с металлическими дорожками для разбега реактивных «катюш». Он смотрел на усталых, но веселых людей в пилотках, и когда они дружелюбно кричали ему, он ловил себя на том, что улыбается в ответ. Он редко улыбался.
А потом новое, народное правительство разделило между крестьянами помещичью землю. Получил свой надел и бывший батрак.
Он стал хозяином! Самостоятельным хозяином!
Любовно создавал бывший батрак свое хозяйство. Народное правительство помогало ему в этом. Оно дало ему лошадь. Бывший батрак становился на ноги, приобретал примитивные, но все же свои собственные орудия. Он продавал на сахарный завод свеклу. Доставалась она ему тяжело. Чем в более позднее время выкопать ее, тем больше будет в ней сахара, тем больше заплатят за нее на заводе. Выкапывать свеклу надо было перед самыми заморозками, но так, чтобы мороз не прихватил ее, не погубил урожай. И он не жалел своего труда, тщетно стараясь убрать свеклу так же быстро, как на соседнем поле сельскохозяйственного кооператива, где командовал однорукий председатель.
Этот председатель сельскохозяйственного кооператива шел сейчас рядом с бывшим батраком. Он хоть и был из той же самой деревни, но работал в городе на заводе, понимал толк в машинах в до войны был искусным механиком. При фашистской оккупации он попал в тюрьму, потом в концлагерь, бежал оттуда, ушел в горы и вступил в партизанский отряд, помогавший Советской Армии. Там и потерял правую руку. После войны на заводе он работать уже не мог. Вернулся в свою родную деревню, где в ту пору организовался сельскохозяйственный кооператив. Его выбрали председателем.
Попав с делегацией в СССР, односельчане держались вместе. Председатель у себя дома не уговаривал соседа вступить в кооператив, понимая, как нелегко тому расставаться с только что созданным своим собственным хозяйством. Но здесь в Советском Союзе он умело обращал внимание своего спутника на неисчислимые преимущества колхозного хозяйства, предоставляя ему самому сделать выводы.
...Из-за угла выехал трехколесный трактор на резиновых шинах. На нем была навешена сверху скрытая щитами машина. Ярко выкрашенные щиты делали машину нарядной.
Не сбавляя скорости, трактор покатил по искусственной аллее хлопчатника, между двумя рядами словно осыпанных снегом макетов кустов. Они на мгновение скрывались за щитами брони и появлялись позади машины уже без белых комков ваты — голые палки с одинокими «нераскрывшимися» коробочками.
Чуть согнувшись, бывший механик старался разглядеть устройство диковинного механизма.
Когда у остановившейся машины сняли щиты, она стала походить на ежа. В обе стороны по ее бокам торчали иголками зазубренные пальцы. Все вместе они напоминали жесткую щетку, похожую на ребром поставленную бесконечную ленту; при движении этой «бесконечной щетки» каждый ее палец вращался вокруг своей оси.
Щит, захватывая куст хлопчатника, прижимал его к щетке. Какой-нибудь из вращающихся пальцев непременно задевал за коробочку. Если она была закрыта, вращающийся палец как бы ощупывал ее, отодвигал в сторону и приближался к другой, уже раскрытой коробочке, вата ее зацеплялась за зазубрины и наматывалась на палец. Если теперь палец проходил еще раз мимо раскрывшейся коробочки, то оставлял ее в покое, так как его зазубрины были скрыты намотавшейся ватой. Палец отталкивал в сторону коробочку, уступая ее идущему следом за ним другому — свободному. Пальцы с «добычей», двигаясь, как на бесконечной ленте, попадали в глубь машины, где уже переставали вращаться. Там, проходя мимо гребенок, они оставляли, на них вату — хлопок. Воздушный поток пневматического транспортера захватывал вату и относил ее по трубе в бункер. Совершая бесконечное движение в машине, пальцы щетки снова выносились на ее рабочую сторону, начиная вращаться, готовые захватить содержимое новых раскрывшихся коробочек, которые встретятся им на пути.
Все это, конечно, удалось рассмотреть только на остановившейся машине. Во время ее работы гости видели лишь чудесное исчезновение «хлопка».
К механическому сборщику хлопка подъехала тележка, и в нее из бункера вывалилась кипа собранной ваты.
Гости окружили директора завода.
— Сколько работников заменяет такая машина? — интересовался председатель кооператива.
— До шестидесяти человек.
Председатель кооператива записывал цифры в большой блокнот. Бывший батрак смотрел на него с недоумением: «Зачем пишет? Разве у нас хлопок растет?»
И ему на миг представилось соседское свекловичное поле, покрытое спинами работающих женщин. «Шестьдесят человек заменяет одна этакая машина!» Он облизнул пересохшие губы и спросил хрипловатым басом:
— В Америке есть такой механизм?
— Такой машины нет, — ответил ему министр. — Там девяносто восемь лет бились над хлопкоуборочной машиной, выдали тысячу патентов, но... — он посмотрел выжидающе на директора.
Тот продолжал.
— Наша машина рассчитана на большие урожаи, чем бывают в США. Американская машина не допускает высадку рядов хлопчатника ближе, чем на метр. Советская, по требованию селекционеров, рассчитана на междурядье в семьдесят пять сантиметров. Создавали мы ее семнадцать лет, вместе с селекционерами.
— Как вместе с селекционерами? — спросил седой профессор в синем берете.
— Совместная работа инженеров с селекционерами, пожалуй, наиболее характерный принцип создания новых машин для советских полей, — говорил директор. — Получив заказ на машину от селекционеров, мы, в свою очередь, потребовали от них выведения таких сортов хлопка, которые удобно было бы собирать машинами.
— Какой же сорт вам понадобился? — интересовался профессор.
— Не столько сорт хлопка, сколько «сорт кустарника». Нам требовалось, чтобы кусты росли собранно, поджато, чтобы их удобно было захватывать щитами на определенной высоте. Нам вывели такой сорт хлопчатника. К этому времени и мы сконструировали первую машину для сбора хлопка. Их уже много работает сейчас в Средней Азии. Новые машины будут еще производительнее, они будут убирать своими вращающимися пальцами хлопок еще чище. Ведь уже в 1955 году нам предстоит, выполняя решения девятнадцатого съезда партии, снимать машинами до семидесяти процентов хлопка-сырца. Помнится, как мешали ним первое время листья хлопчатника. Селекционеры опять пришли на помощь. Придумали опрыскивать химикатами поле за неделю до уборки. Листья отваливались, а коробочки поспевали скорее и равномернее. Это навело селекционеров на новую мысль: вывести такой сорт хлопчатника, у которого листья сами бы отваливались, едва коробочки начнут поспевать.
— Неужели можно вывести такой сорт? — изумился профессор,
— Уже вывели. Теперь снова очередь за нами, механизаторами. В неполивных районах растет очень низкий хлопок. Для него нужна специальная уборочная машина. Мы пробуем сделать ее на пневматическом принципе. Хлопок из раскрытых коробочек будет засасываться могучими вентиляторами.
— Это уже не просто дружба между конструкторами и селекционерами, — сказал министр. — Это уже творческое соревнование.
* * *
Гости шли по двору завода к экспериментальному цеху.
Десятки лет они прожили в стране, смотревшей на Запад. Десятки лет они привыкали думать, что цивилизация с ее достижениями «несравненной» техники идет с Запада. Почему же здесь, в стране, которую не так давно еще считали отсталой, создаются чудо-машины, каких и в помине не было на Западе? Почему талантливые западные инженеры и умелые рабочие на западных заводах не могут построить подобных машин? Разве они не могли бы этого сделать?
Применение машин в капиталистическом обществе ограничено корыстью. Выгода — вот основная движущая сила капитализма. А если выгоднее губить «чернокожих рабов» на хлопковых плантациях, зачем покупать машины? А если выгодно грошами оплачивать почти даровой женский труд «белых рабынь» на плантациях свеклы, зачем заказывать машины?
Сталин учит, что «Капитализм стоит за новую технику, когда она сулит ему наибольшие прибыли. Капитализм стоит против новой техники и за переход на ручной труд, когда новая техника не сулит больше наибольших прибылей».
Капиталисты, когда это им выгодно, стремятся, конечно, механизировать и автоматизировать свое заводское производство. Они совершенствуют машины. Они даже мечтают о машинах-роботах, но которые не избавляли бы человека от тяжелого труда, а заменяли бы человека вообще, заменяли бы рабочего, который «осмеливается мыслить», способен бастовать, грозить революцией. Жрецы религии капитализма выдумали псевдонауку «кибернетику». Они хотят с помощью электронных ламп и реле заставить машину думать, но думать в строго заданных пределах, без «опасных» мыслей. Они ссылаются на счетные машины, решающие сложные уравнения, и воображают, что если можно сделать счетную машину, то можно сделать и машину, играющую в шахматы, — эдакого «электроннорелейного чемпиона мира», будто можно сконструировать универсальный робот, способный заменить рабочего. Страх перед рабочим классом, перед пролетариатом заставляет капиталистов механизировать свое индустриальное производство, сводить роль рабочего к роли бездумного рычага машины, наконец — освобождаться от «мыслящего рабочего» вообще.
Несколько лет назад я имел возможность видеть американского робота, которого безудержно рекламировали, как технику будущего. Он демонстрировался сотням тысяч посетителей Нью-Йоркской международной выставки. Ее лозунгом было — «Мир завтра».
В павильоне, на специальной эстраде стояло чудовище с четырьмя конечностями и круглой страшной головой. Это был гибрид водолаза, средневекового рыцаря и цистерны. Грудь была пуста и имела окошечко. За стеклом — лампочка, зажигавшаяся каждый раз, как только робот получал приказание по телефону. Показывающий это чудище американец предложил своему питомцу рассказать о себе. Питомец, совсем невпопад открывая рот, принялся рассказывать, что он, мотоэлектрический человек, умеет ходить, поднимать руки, сгибать пальцы, разговаривать, различать цвета и, главное, курить!
Затем способности робота были продемонстрированы. В животе загоралась лампочка, после чего он довольно неохотно начинал повиноваться. Поднимал руки, сгибал пальцы с легким пощелкиванием. Потом к его «глазам» подносили разноцветные фонарики. Робот громкоговорительным голосом называл их цвета. При этом на красном цвете он заупрямился: так и не сказал ни слова, как ни уговаривал его в телефонную трубку проворный американец. В рот роботу сунули сигаретку, и через определенные промежутки времени он стал выпускать дым через дырки в носу и во рту. Зрители умилились. Сигаретку вынули, но здесь произошел опять казус. Несмотря на отсутствие папиросы, робот продолжал выпускать неизвестно откуда бравшийся дым. Это привело присутствующих в еще больший восторг.
Представление было закончено. Робота повернули, как паровоз на поворотном круге, и он двинулся, перекатывая на колесиках свои тяжелые ноги.
Теперь я заметил, что эстрада представляла собой замаскированное помещение. Там была сосредоточена исключительной сложности автоматика, где все последние достижения телемеханики были поставлены на службу грубому оживлению громоздкого подобия человека, призванного переносить американцев в желанное «завтра» из столь беспросветного «сегодня».
И на эти-то «сооружения» из металла, стекла и проводов хотели бы всерьез делать ставку жрецы религии капитализма!
Но на пути их непреодолимые препятствия. Можно сделать повинующуюся куклу, можно сделать вычислительную машину, но никогда нельзя создать даже подобие творчески мыслящего мозга человека, каким бы количеством электронных ламп ни пользоваться.
Рассуждения о замене человека роботом нелепы еще и потому, что вся сущность капитализма состоит в эксплуатации человека. И никогда капитализм не откажется от этой эксплуатации, не подрубит сук, на котором сидит. И как бы ни кричали жрецы капитализма о возможности создания электронного мозга, на деле они не способны бороться с кризисами в промышленности, преодолеть отставание сельского хозяйства.
В нашей стране иностранные гости видят не «роботов», а машины, которые делают человека в десятки раз более сильным, ловким, выносливым, напрягающим не свои мускулы, а повелевающим стальными мышцами послушных механизмов. «...Механизация процессов труда, — как говорил в 1931 году товарищ Сталин, — является той новой для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых масштабов производства».
Процессы труда у нас механизируются для того, чтобы облегчить труд человека, сделать этот труд более производительным, стереть существенную разницу между трудом физическим и умственным. И мы механизируем, в частности в сельском хозяйстве, такие процессы труда, над которыми и не задумываются на Западе.
Не удивительно ли, что разведение сахарной свеклы, в немалой доле обеспечивающей сахаром население земного шара, не механизировано нигде в мире!
Нам ясно теперь, что это прежде всего было невыгодно капиталистам. Но и технически осуществить такую задачу было бы крайне трудно. Извлечь с каждого гектара до 100 тысяч растений вместе с корнеплодами! А каждое растение имеет свою собственную корневую систему, свою величину, степень развития, ботву. Кроме того, надо отрезать ботву, рассортировать корнеплоды.
Вот почему так поражены были гости-свекловоды, когда директор завода подвел их к странной машине с тремя зубчатыми хребтами, объявив, что перед ними свеклоуборочный комбайн.
Да, в Советской стране, единственной в мире, была рождена машина для механизации необычайно трудоемкого процесса — уборки сахарной свеклы.
И создавалась она вдохновенным трудом.
Как помочь свекловодам? Может быть, подкопать клубни плугом, чтобы собрать с земли? Нет, это было бы только полдела!
Зерновой комбайн не только жнет, но и молотит, очищает зерно. Свеклокомбайн должен не только извлечь корнеплоды, но и осторожно отрезать от них в самом выгодном месте ботву, наконец отдельно выгрузить ботву и корнеплоды.
Такая машина была задумана еще до войны В. Д. Павловым, С. А. Герасимовым и академиком М. С. Сиваченко.
Нелегко создать вседелающую машину. Было решено конструировать и проверять последовательно отдельные части будущей машины. Сначала вытаскивать свеклу из земли, складывать корнеплоды вместе с ботвой в копны. Это самое трудное.
Единственная машина, вытаскивающая растения из земли, — льнотеребилка. В ее создании принимали участие теперешние конструкторы свеклокомбайна. Они решили применить для вытаскивания свеклы теребильные ленты. Идущий впереди лемех подкопает свеклу. Ботва ее попадет между двумя движущимися наклонными лентами. Они потянут ее вверх, и корнеплод выдернется из земли.
Так появился первый в мире «свеклокопнитель». Но для конструкторов это был лишь первый «рабочий орган» будущей машины. И она появилась, эта универсальная машина, в 1940 году. Конструкторы мечтали улучшить ее, но война оторвала их от созидательной работы. Один из них ушел в армию, другой — на завод. Умер их руководитель академик Сиваченко.
Лишь после войны вернулись Павлов и Герасимов к любимому своему детищу. Они посмотрели на него уже «чужими» глазами, многое решили переделать. Работали Павлов и Герасимов на том же заводе, директор которого принимал теперь гостей из дружеской страны.
В 1947 году первый в мире свеклокомбайн прошел испытания и получил хорошую оценку.
Ни в одном виде техники практика не вносит таких поправок в конструкцию, как в сельскохозяйственном машиностроении. Ведь машина должна работать в самых тяжелых условиях — в пыли, в грязи, на рытвинах и ухабах, на разных почвах — и рыхлых и вязких, в сушь, после дождя, иметь дело с растениями, порой резко отличными друг от друга.
...Снова в комбайне обнаружены недостатки. Опять сутками не выходили из цехов конструкторы. Не раз вспоминались им советы покойного руководителя.
И, наконец, появился свеклокомбайн «СПГ-1» — машина Сиваченко, Павлова, Герасимова. Обслуживаемый одним человеком, комбайн шел по ряду свеклы, подкапывая ее, извлекал корнеплоды за ботву из земли, аккуратно отрезал ботву, складывал корнеплоды и ботву в раздельные валики.
Новая машина значительно ускоряла уборку, экономила 18—20 человеко-дней на каждом гектаре по сравнению с плугом, который только выкапывал свеклу. В десятки раз повысилась производительность человека.
Машина получила высшую оценку — создатели ее были награждены Сталинской премией.
И тем не менее не комбайн «СПГ-1» стоял перед гостями. Не на один ряд свеклы, а на три был рассчитан новый комбайн.
Его зубчатые хребты были тремя «бесконечными» цепями, состоящими из отдельных захватывающих лап. Когда трактор тянет свеклокомбайн, бесконечные цепи бегут над землей в сторону, обратную движению комбайна, и как раз с той же скоростью. Пружинные лапы, касаясь специальных планок, поставленных в определенных местах, в нужный момент раскрываются и захватывают ботву, как птицы клювом или как хозяйка зажимает белье пружинными защепками. Захватившие ботву лапы находятся на наклонной бесконечной цепи. По мере ее движения они поднимаются над землей, хотя и не перемещаются вдоль нее. Получается, что лапа, ухватив ботву, начинает строго вертикально подниматься и вытаскивать подкопанный лемехом корнеплод. Бесконечная цепь несет внутри комбайна зажатую в лапах «добычу». По пути дисковый нож аккуратно отрежет от ботвы корнеплод. Он упадет на один транспортер, а ботва, мгновение спустя, на другой. Транспортеры вынесут корнеплоды и ботву в разные бункера, оттуда они время от времени будут вываливаться копнами на землю. Автомашины потом подберут эти копны с поля.
— Вот это машина! — раздался восхищенный возглас бывшего батрака-свекловода. — Вот это механизм!
Он сбросил пальто, встал на колени и рассматривал захватывающие лапы, когда они чуть только приоткрываются, когда раскрыты, когда, наконец, захлопываются, чтобы захватить ботву. Он пробовал большим пальцем правой руки острие дискового ножа.
Министр знал об «СПГ-1». Его поразила быстрая замена недавно принятой и,казалось бы, безупречной машины. Да, такая быстрая замена конструкций, такая бурная творческая инициатива невозможна была бы в капиталистическом обществе. В буржуазном обществе техника стареет, но там, где с-ее помощью можно извлекать прибыль, дряхлая, она продолжает жить. В Нью-Йорке по Гудзону ходят допотопные паромы с гребным колесом за кормой, которые перевозили еще Авраама Линкольна. Они плывут рядом с современным глиссером. Владельцы паромов, умножая прибыль, не хотят их менять. Зачем? Ведь они обладают монополией перевоза!
Советские люди, вчера выпустив на поля однорядные свеклокомбайны, сегодня заменяют их трехрядными.
Колхозники, с радостью приняв новую машину, однако первые поставили вопрос о еще более производительном свеклокомбайне. Не один ряд, а три!
Новый коллектив конструкторов начал с того, на чем кончил прежний. Кореньков, Еремеев и Мельников использовали весь опыт создания первого свеклокомбайна, но не стали слепо копировать, «утраивать» его рабочие органы.
При современном уровне техники изобретения не рождаются внезапно, «на голом месте». В прошлом веке, когда появлялись новые области техники, связанные с паром, электричеством, новая конструкция часто не походила ни на что, прежде существовавшее, строилась на совершенно новых принципах. При современном развитии всех отраслей техники новая конструкция, как правило, вырастает уже из прежних, работавших, опробованных. Новое в технике подобно кирпичу в каменной стене, который кладется на уже уложенные, тем самым поднимая стену еще выше. Да и этот «кирпич» почти никогда не кладется одним человеком. Это оказывается под силу лишь творческому коллективу.
Так и в случае с свеклокомбайном. Новый коллектив заменил теребильные ленты цепями из захватывающих лап, применил раздельные, периодически опоражнивающиеся бункеры. И снова создатели свеклокомбайна были удостоены Сталинской премии.
Новая трехрядная машина пришла на свекловичные поля, и оказалось, что ей тесно в границах колхозного звена. Как тракторы могли развернуться лишь на полях вновь созданных колхозов, подобно тому, как высокопроизводительный комбайн или сенокосилка-гигант с десятиметровым захватом по-настоящему могли показать себя лишь на полях объединенных колхозов, так и новый свеклокомбайн был против «звена» — он был за бригаду, за новую форму организации труда в колхозе.
Обо всем этом рассказывал гостям директор.
Бывший батрак в задумчивости стоял около полюбившейся ему машины. Может быть, он не понял всего, о чем говорил директор, но то, что машина хороша, что свеклу она может убрать быстро, что она словно удесятеряет у тебя руки, это он понял отлично. Так же хорошо осознавал он, что эту машину ему не купить, пока он держится за свое хозяйство. Он посмотрел на председателя сельскохозяйственного кооператива. Тот уже приценился к свеклокомбайну, отметил, что он заменит в поле до 60 человек, и прятал сейчас блокнот в карман. Через всю страницу он написал: «95 процентов!!» Директивы XIX съезда партии предусматривают, что к концу пятилетия до 95 процентов всего урожая свеклы в Советском Союзе будет убираться машинами. Можно понять, какой скачок сделает механизация этой области сельского хозяйства», если вспомнить, что в первый год пятилетки была выпущена лишь первая партия трехрядных свеклокомбайнов.
...Гости покидали завод. Все, что они видели, заставило их о многом подумать. Советские машины не призваны заменять человека, как об этом мечтают капиталисты, заказывающие инженерам «роботов с электронным мозгом». Машины коммунизма в десятки, сотни раз умножают силу человека, который поднимается от исполнителя приемов физического труда до командира машин, во много раз быстрее выполняющих этот труд.
Труд же командиров машин, готовящих их к работе, организующих технологический процесс, становится творческим трудом культурных, владеющих техникой людей, трудом, который лишь несущественно будет отличаться от умственного.