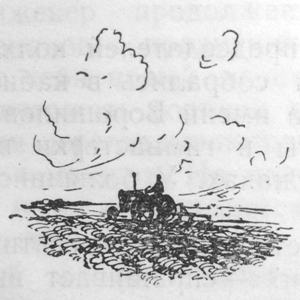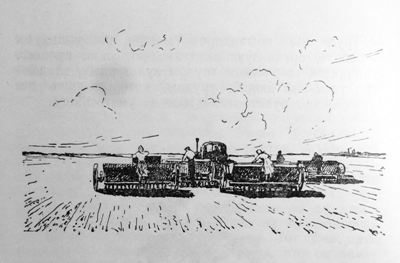Глава 5
ОРУДИЯ НАУКИ
Косилка и жатка, комбайн и молотилка — все эти машины снимают и обрабатывают уже выросшую на поле сельскохозяйственную культуру. Они освобождают тружеников полей от наиболее тяжелого физического труда.
Но есть такие сельскохозяйственные машины и орудия, которые обрабатывают почву, высевают семена, ухаживают за растениями, подкармливают их, борются с сорняками, непосредственно влияют на урожай.
В капиталистических странах каждая фирма производит орудия обработки почвы собственной конструкции, навязывая свою продукцию покупателю. Более двух тысяч систем плугов рекламируется на Западе. Покупающий их крестьянин или фермер не имеет представления о том, хорошо или плохо эти орудия обрабатывают землю. А между тем именно орудия, возделывающие землю, должны полностью отвечать современным требованиям агротехнической науки.
В старое время крестьянин ковырял землю сохой, чтобы хоть как-нибудь разрыхлить ее. Он и не подозревал, что может существовать «наука» о том, как пахать.
Соху сменил плуг. По-прежнему шел за ним пахарь. Лемех отваливал тонкий пласт земли. Особенно тяжело было пахать целину. Но тяжкий труд окупал себя. Только с целины можно было снять хороший урожай. Земля, уже паханная, год от году рожала все меньше и меньше. «Истощается», — поспешили сделать вывод западные ученые.
Простой земледелец знал, как надо поступить в таком случае. Если дать земле отлежаться лет 20—25 «в перелоге», тогда она, «отдохнувшая», снова будет дарить щедро. Но мало земли у людей, где же им ждать 25 лет! Приходится запахивать землю раньше. А она, уставшая, рожает все меньше.
Западные ученые всерьез занялись «истощающейся» землей. Наиболее прогрессивные из них, такие, как Либих, не хотели верить, что земля не может восстановить своего плодородия, ведь «отдыхает» же она в перелоге.
Все дело в ее химическом составе, решают они. Растения во время своего развития берут у земли нужные им вещества. В земле не остается этих веществ. Их надо вернуть! И на «истощившуюся» землю везут скрупулезно подобранные удобрения.
Но почему-то опять урожаи не увеличивались, а уменьшались!
Значит, недостаточно только вернуть земле израсходованные вещества, решает Либих. Надо ускорить процесс выветривания. Ведь, очевидно, благодаря этому процессу минеральные вещества лежащих в перелоге почв становятся годными для пищи растений. И «либиховцы» советуют пахать совсем по-особенному, ставить пласт дыбом, чтобы его обвевал ветерок со всех сторон. Тогда будет «совсем так, как в перелоге». Английские инженеры даже выдумали плуг, пашущий «на взмет».
Но и это не помогло. На вздыбленной взметом пашне урожаи падали еще быстрее.
Со злорадным удовлетворением зафиксировали это «идеологи» капиталистического общества.
Земля истощается, урожаи падают! Иначе и быть не может!
На весь мир провозглашают они вновь «открытый», непререкаемый «закон природы» — «закон убывающего плодородия». Оказывается, отпущенные природой запасы «безвозвратно уничтожаются». Тщетно искать путей восстановления богатств земли. Они подобны банковскому счету, который безрассудно используется слишком многочисленными наследниками, обреченными на разорение. Слишком расплодилось человечество!
Снова на свет вытаскивается теорийка хитрого попа Мальтуса. Нужно уменьшить количество наследников. Спасение человечества в сокращении его численности. Благостно все, что способствует этому сокращению. Само провидение ниспосылает безрассудным людям, не желающим сократить рождаемость, войны и эпидемии, которые унесут «лишние рты».
Эти «научные теории» наруку империалистам, которые готовят и уже применяют самые подлые средства массового уничтожения людей. Циничные генералы рекламируют смертоносные газы и искусственно вызванные эпидемии, как самые «деловые» и выгодные способы ведения войны. Уничтожаются только люди, а дома и заводы остаются целыми. Пусть сохраняются материальные ценности; чем больше умрет людей — тем лучше! Земле все равно не прокормить их всех. Таков «закон природы», «один из важнейших законов цивилизации».
В. И. Ленин в свое время разоблачил защитников этого закона, указывая, что «закон» этот понадобился им для того, чтобы «...оставить в тени капиталистические препятствия земледельческому прогрессу, чтобы свалить все на естественный «закон убывающего плодородия почвы...». Ленин писал, что «...ни о каком «законе» и даже ни о какой кардинальной особенности земледелия не может быть и речи».
В корне неверно было брать укоренившуюся в некоторых странах отсталую систему возделывания земли, вообразить ее застывшей и неизменной для всех времен и провозгласить, что раз земля практически дает из года в год продуктов меньше, то это и есть «закон природы». А между тем, говорит Маркс: «С развитием естественных наук и агрономии изменяется и плодородие земли, так как изменяются средства, при помощи которых элементы почвы делаются пригодными для немедленного использования».
Основываясь на работах Маркса и Энгельса, Владимир Ильич Ленин опроверг аргументы защитников пресловутого «закона», основанные на теории «извечности», на теории «отрицания развития всего существующего». Ленин показал, что дело не в ограниченных производительных силах, а в способах сельскохозяйственного производства, от которых, в конечном счете, и зависит плодородие земли.
Передовые методы сельскохозяйственного производства недоступны капиталистической системе, ибо одно из основных положений теории Маркса и Энгельса говорит, что противоположность между городом и деревней при капитализме «...разрушает необходимое соответствие и взаимозависимость между сельским хозяйством и промышленностью». Экономической основой этой противоположности, учит Сталин, «...является эксплуатация деревни городом, экспроприация крестьянства и. разорение большинства деревенского населения всем ходом развития промышленности, торговли, кредитной системы при капитализме».
Передовые способы сельскохозяйственного производства, разработанные наукой о плодородии, становятся достоянием лишь социалистической системы, так как «...почва для противоположности между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством уже ликвидирована нынешним нашим социалистическим строем», подчеркивает И. В. Сталин в своем гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР».
Советская наука о плодородии, развитие которой было предопределено гениальными трудами В. И. Ленина, показала, в чем сущность плодородия почвы и как можно этим плодородием управлять.
Дело не только в химическом составе почвы, дело в ее структуре.
Еще русский ученый Костычев установил, что целина состоит из крупиц, комочков, величиной от горошины до орешка. Эти комочки земли вбирают в себя влагу подобно губкам. После дождя вода, насытив комочки, может свободно пройти между ними, задерживаясь лишь на подпахотном горизонте, где сохраняется не испаряясь. Между комочками легко проникает и воздух, необходимый для жизнедеятельности аэробных, любящих воздух бактерий, «заготовляющих» из органических веществ почвы пищу растениям.
Какой же становится почва после выращивания на ней злаков?
Люди и орудия, которыми они пользуются при обработке полей, разрушают комочки земли в верхнем слое почвы. Разрушаются эти комочки и от жизнедеятельности бактерий-кормилиц. Заготовляя из органических веществ пищу для растений, эти бактерии расходуют также и перегной, цементирующий комочки, которые, потеряв перегной, распадаются. Почва перестает быть комковатой, становится бесструктурной, как пыль на дороге. Если пройдет дождь, смочит поверхностный слой, то он заплывет. Влага теперь будет проникать вглубь уже не по свободным промежуткам между комками, как в структурной почве, а по капиллярам, образованным между мельчайшими частичками почвы. Движение влаги будет медленным. При сильном дожде она не успеет проникнуть вглубь и стечет по поверхности. Оставшаяся в заплывшем слое влага закупорит все капилляры, оставит без воздуха воздухолюбивые бактерии, прекратит их работу по заготовке пищи растениям. Верхний слой почвы скоро высохнет. Тотчас по капиллярам, как керосин в фитиле лампы, начнет подниматься влага, она будет высасываться из глубины и испаряться на поверхности. Почва станет высыхать, чего не было при ее структурном строении, когда ушедшая вниз влага никак не могла подняться по широким каналам между комками.
И вот в земле, где питательных веществ, по расчетам химиков, более чем достаточно, растения хиреют от жажды и голода, даже если и прошли сильные дожди. Для них гибельна бесструктурная почва.
Эту глубочайшую истину установили русские ученые, создавшие науку о почве: Докучаев, Костычев, наконец академик Вильямс.
Для восстановления плодородия нужно вернуть почве структурность. Советская наука о плодородии почвы, наука Вильямса, указывает, как сделать из бесструктурной земли структурную, как спрессовать в глубине почвы комочки, спаяв их связующим веществом, нерастворимым в воде. Подобные вещества в коллоидной химии называются гелями, или цементами. Таким цементом для почвы, как указывает Вильямс, служит перегной.
Всю эту колоссальную работу по переделке почвы могут выполнить растения. Это они, специально подобранные, высеянные в годы, последующие за урожаем зерновых, должны проделать в почве те изменения, которые происходят в течение 25 лет при перелоге, но лишь в значительно более короткий срок. В чередовании и в подборе этих сменяющих друг друга растений и заключен один из важнейших принципов травопольной системы земледелия. После уборки урожая злаков в следующем году на поле посеют смесь бобовых и злаковых трав, обладающих необычайно разветвленной корневой системой, которая густой сетью пронижет почву, разделит ее на мельчайшие комочки. Развиваясь, эти корни увеличиваются в объеме и сжимают комочки, уплотняют их. Скошенные осенью бобовые и злаковые травы оставят в земле свои разветвленные корневища. Корни сгниют, и место, которое они занимали, превратится в наполненные воздухом промежутки между сжатыми комочками земли. Вещество же корней, переработанное бактериями, даст связующий «цемент», делающий комочки прочными, не распадающимися даже в воде.
Теперь земля «сформирована», стала снова структурной. Она будет впитывать и сохранять влагу, она даст воздух для воздухолюбивых бактерий, которые примутся усердно приготовлять пищу растениям. Земля готова для выращивания новых культурных растений. Но злаки не сразу придут на приготовленную землю. Растения в строгом плане будут сменять друг друга, не истощая, а обогащая землю нужными веществами, в частности азотом, для будущего посева зерновых.
Так растения с их корнями превратились у советских ученых в послушные «орудия обработки земли», придающие ей утраченную структурность.
Ныне научная система земледелия стала единственной в нашей стране. XIX съезд партии в своих директивах указывает: «Земледелие должно стать еще более продуктивным и квалифицированным, с развитым травосеянием и правильными севооборотами...»
Но мало создать «культурную почву», как называл Вильямс землю, получающуюся в результате применения травопольной системы земледелия, надо эту культурную почву уберечь от вредных влияний иссушающих ветров — суховеев, спасти ее от выветривания — эрозии. Поэтому наряду с травопольной системой в общий комплекс научного земледелия входят и защитные лесные полосы и водоемы.
Эти лесные полосы и водоемы, предусмотренные великим сталинским планом преобразования природы, появляются сейчас в степных районах нашей страны, оберегая посевы, оберегая созданную там культурную почву.
Культурная почва не может быть обработана как угодно. Она требует, как говорил В. Р. Вильямс, культурной вспашки. Для этого земледельцу нужны орудия совершенно определенного, продиктованного наукой типа.
Для создания. таких орудий ученый и инженер должны работать рука об руку.
Не сразу добились ученые единения с инженерами. Не сразу механизаторы сельского хозяйства стали и передовыми агротехниками. Вильямсу и его соратникам пришлось вести страстную борьбу за превращение технических орудий, какими были до сих пор орудия обработки почвы, в орудия науки.
Именно такой была борьба за плуг с предплужником, борьба за глубокую вспашку. Поверхностный слой, теряющий свою структуру, имеет глубину 10 сантиметров. Под ним находится комковатый слой. Его и надо использовать, вынуть его со дна глубокой борозды, сбросить в эту борозду бесструктурный слой, а поверх него положить поднятый из глубины, комковатый.
Вот какие операции должен проделать плуг. Этим диктуется и форма и конструкция плуга. Тут нужен «двойной плуг» — плуг с предплужником. Они должны быть копией один другого, только в разных масштабах, строго параллельные, жестко закрепленные. Идущий впереди маленький плужок-предплужник снимает верхний бесструктурный слой и сбрасывает его на дно образованной в предыдущий заход глубокой борозды. Основной плуг прокладывает следующую борозду, заполняет, заделывает прежнюю вынутым из глубины комковатым слоем.
Эффективность предложенного наукой плуга с предплужником оказалась грандиозной. Теперь плуг с предплужником наряду с глубокой вспашкой применяется в нашей стране повсеместно, на практике став подлинным орудием науки.
* * *
По требованию науки плуг с предплужником пашет землю не весной, когда в былое время выходил в поле крестьянин с сохой. Он пашет осенью, проводя зяблевую вспашку тогда, когда поднимутся, прорастут оставшиеся после уборки урожая сорняки. Вместе с личинками вредителей они будут похоронены, сброшены в глубокую борозду и накрыты свежим слоем земли.
Чтобы при зяблевой вспашке вернее погибли все сорняки, примерно за месяц до этого надо создать для них наилучшие условия, «спровоцировать» их рост.
Для этого наука потребовала проводить обработку жнивья — лущение и сконструировать специальные орудия — лущильники. Они должны были, как настойчиво требовал Вильямс, незамедлительно после снятия урожая разрыхлять стерню с поверхности, чтобы земля, потерявшая растительный покров, не лишилась бы влаги. После такой обработки семена сорняков «провоцируются», начинают бурно развиваться, чтобы через месяц погибнуть при зяблевой вспашке.
Вильямс добивался, чтобы лущение проводилось не только незамедлительно, но лучше всего одновременно с работой комбайна. Лущильник должен быть прицеплен к комбайну, идти сразу за ним, обрабатывая жнивье!
Новое всегда рождается в борьбе со старым.
Ученый встречал упорное сопротивление. Были инженеры, которые утверждали, что «мощности трактора нехватит на комбайн и еще на лущение. Да, кроме того, лущильник и не сможет обработать такую широкую полосу, как комбайн». Словом, «выполнить мечтания ученых невозможно». Пришлось ученым самим «засучить рукава».
Один из научных сотрудников Вильямса, И. С. Нестеренко, переконструировал дисковый лущильник и доказал возможность одновременной работы этого лущильника и комбайна.
Так лущильник, прицепленный к комбайну, стал «орудием науки». Он представляет собой батарею дисков, посаженных на одну ось. Поставленные под углом к линии движения, эти диски врезаются в землю и разрыхляют ее с поверхности.
Глубина взрыхления жнивья тоже стала предметом ожесточенного спора между учеными и инженерами. До вмешательства Вильямса конструкторы стремились делать лущильники, взрыхляющие землю на большую глубину. Казалось бы, чем глубже — тем лучше. Ученые поправили инженеров. Если взрыхлить глубже шести сантиметров, то предплужник работать не сможет. Ему нечего будет срезать. Рыхлый слой земли будет сгребаться в вал, не сбрасываясь в борозду. В таких случаях предплужник просто приходилось снимать, а следовательно, отказываться от «культурной вспашки».
Так рождался современный лущильник — подлинное орудие науки, — обрабатывающий землю тогда и именно таким образом, как требует наука о плодородии.
Научный подход при конструировании орудий обработки почвы теперь стал единственным в практике механизаторов советского сельского хозяйства.
В нашей обширной стране существуют самые различные почвенные условия. Для некоторых мест юга было бы выгодно сменить весь пахотный слой. Для этого глубинный слой нужно вынуть, сохранив на месте подпахотный слой, хорошо удерживающий воду, то есть поменять местами первый и третий слои почвы, оставив на месте второй, средний слой. Поистине фантастическая задача, если учесть, что создавать, по сути дела, новую почву придется на площади в десятки тысяч квадратных километров!
И все же инженеры в содружестве с учеными успешно решают такую задачу. Автор этой идеи В. П. Мосолов получил Сталинскую премию. На Одесском заводе имени Октябрьской революции делают плуг конструктора Чикалики. Этот замечательный плуг с 60-сантиметровой глубины взметает тучный, никогда не служивший людям слой, а на дно борозды сбрасывает сверху плохо рожавшую землю. Средний же, подпахотный слой водворяет на место.
Современный советский плуг, выполняя все требования науки, одновременно становится и орудием высокой производительности, многокорпусным. Сразу несколько плугов с предплужниками совместились в одном.
До сих пор плуг имел свои колеса, и трактор тащил его за собой. А нельзя ли делать плуг без колес, делать его не прицепным, а воспользоваться ходовой частью трактора, его гусеницами и приделать лемехи к трактору? Не навечно, конечно, приделать, а соорудить такую раму плуга, которую можно было бы навешивать на трактор, надевать на него, как своеобразное «седло». Трактор с таким навешенным на него орудием на время превращается, по существу говоря, в самоходный плуг.
Навесной плуг легче обычного, удобнее в обращении, наконец дешевле. Он уже нашел у нас широкое применение.
Все двух-трехкорпусные плуги станут навесными, самоходными. Прицепными плугами останутся лишь многокорпусные, которые идут за особо мощным, например электрическим, трактором и поднимают землю с глубины 60 сантиметров, а иногда и одного метра.
Именно такой могучий плуг испытывался не очень давно на известном «Электрическом острове», где бок о бок работают инженеры-электрики и агротехники.
Знаменит этот остров еще с очень давних времен. Это же красочно описанный Гоголем остров Хортица! Когда-то чубатые «лыцари» из Запорожской сечи писали здесь озорное письмо турецкому султану. Теперь на этом острове, расположенном чуть ниже плотины Днепрогэса, испытываются сельскохозяйственные машины и орудия, использующие для своего движения электрическую энергию.
Нас сейчас интересует необычного вида, как бы крылатый, плуг, идущий за электрическим трактором. Поражают виднеющиеся над ним, поблескивающие на солнце стальные крылья. Нет, это не крылья — это поднятые вверх лемехи. Что это? Плуг перевернут вверх ногами? Зачем?
Как известно, плуг отваливает пласт земли в одну сторону, оставляя борозду. Чтобы поднять нетронутый пласт и уложить его в борозду, плуг должен идти в том же самом направлении, в каком он двигался, прокладывая первую борозду. Но ведь трактор должен возвращаться, и плуг будет сваливать землю совсем в другую сторону. Как же быть?
Практически из положения выходят, деля поле на две половины. Одну плуг пашет в том направлении, в каком проложена начальная борозда, вторую — при возвратном движении, когда пласт кладется на противоположную сторону. Естественно, что при этом трактору приходится переходить с одной части поля на другую.
Если для обычного трактора это связано с нерациональным расходованием горючего, то с электрическим дело еще сложнее. Лишь возвратно-челночное движение позволяет ему правильно сматывать и наматывать на катушку кабель. Перпендикулярные перемещения с одной части поля на другую электрическому трактору неудобны.
Плуг с опрокинутыми, торчащими вверх лемехами сконструирован именно для того, чтобы обойтись без разбивки поля на правый и левый отвалы. Его конструкторы — инженеры Ивановы, муж и жена Ивановы, авторы плугов самых разнообразных моделей.
Конструкторы» наблюдают сейчас за работой своего плуга. Когда он проходит мимо них, видно, что в земле движутся пять корпусов, пять лемехов, отваливающих землю влево, а пять зеркальных изображений работающих лемехов, таких же лемехов, но только правого отвала, находятся вверху и поблескивают на солнце.
Плуг Ивановых — двойной плуг. Два многокорпусных плуга совмещены вместе. На передней части плуга, между его колесами, видно гидравлическое устройство с трубками, тянущимися к трактору. Оно позволяет трактористу движением рукоятки переворачивать части плуга: поднять левые корпуса, которые только что пахали землю, и «заглубить» правые. Это будет нужно, когда машина дойдет до конца поля. Тогда тракторист повернет назад, перевернет лемехи плуга, чтобы в землю вошли корпуса правого отвала, и поедет обратно. Корпуса правого отвала заделают борозду, проложенную корпусами левого отвала.
Итак, двойной плуг! Только такое простое решение и приемлемо для сельского хозяйства! Плуг — массовое орудие. Ведь за один только 1951 год промышленность выпустила около двух миллионов (!) сельскохозяйственных машин и в том числе особенно много почвообрабатывающих орудий!
Большое значение для выращивания высоких урожаев имеют и орудия механизированного сева.
Прочное место в нашем сельском хозяйстве заняли сеялки с сошниками, поставленными под углом друг к другу дисками, прокладывающими борозду, в которую из трубок рядками сыплются семена.
Единый принцип, положенный в основу всех видов сеялок для злаков и трав, для бобовых и других типов растений, позволил провести полную унификацию этих машин. Все они состояли из одних и тех же деталей, которые можно было изготовлять на заводах в массовом порядке. При сборке этих деталей лишь 8—15 процентов подбирались специально для каждого выпускаемого типа сеялок, остальные же детали были совершенно такими, как и у других сеялок. Это чрезвычайно упростило и удешевило их производство.
Казалось бы, инженеры достигли полного технического совершенства посевных машин. Они уже задумывались над тем, чтобы облегчить управление сеялками, сократить число обслуживающих машины людей. Если сеялки сцеплять по пять штук за одним трактором, то на каждой можно установить электрические автоматы, которые бы управлялись самим трактористом.
Но агротехническая наука не стоит на месте. Ученые задумались: «Достаточен ли простор для каждого из 5 миллионов высеянных на гектар семян?» Ведь зерна ложатся на землю рядками с промежутками, величина которых зависит от конструкции дисковых сеялок.
А что, если использовать промежутки между рядками? Что, если рядков этих сделать больше при том же количестве семян, то-есть распределять семена равномернее по засеваемой площади? Были проделаны многочисленные опыты.
Результаты превзошли все ожидания.
Два-три лишних центнера с гектара!
Разве из-за этого не стоило пересмотреть принципы конструирования механизмов сева?
Но вот беда — в колхозах работает множество дисковых сеялок, рассчитанных так, что расстояние между сошниками у них никак не сделаешь меньше 15 сантиметров. На заводах налажен массовый выпуск деталей таких сеялок. Перестраивать заводское производство для сеялок совершенно новых конструкций было бы очень трудно.
Решили отрегулировать существующие сеялки так, чтобы из них высыпалось вдвое меньше семян, проходить же сеялками по полю два раза, в перпендикулярных направлениях — сеять «вперекрест».
Тогда удастся высеять положенные 5 миллионов зерен на гектар на двойном количестве рядков, то есть зерна будут распределены по засеваемой площади более равномерно.
Новый способ посева дал 2—3 лишних центнера с гектара, но нужно было вдвое больше сеять, на больший срок занимать трактор, вдвое больше расходовать горючего.
Инженеры не хотели с этим мириться — они взялись найти способ механизированного узкорядного посева, создать новое орудие науки.
Конструктор В. Д. Богачев, награжденный впоследствии Сталинской премией, предложил сеялку, которая с виду, казалось бы, ничем не отличалась от обычной. Те же диски, правда, поставленные под более тупым углом, те же сошники, но... в каждом сошнике — две трубки, из которых зерно сыплется в два рядка, с расстоянием между ними в 7,5 сантиметра!
Конструкция В. Д. Богачева позволила заводам, не меняя обычных унифицированных, годных для любой сеялки деталей, выпускать новый тип сеялок для узкорядного сева.
Сколько зерна будет дополнительно снято с полей благодаря этому простому усовершенствованию, продиктованному требованием науки!
Так создаются новые советские машины, способствующие получению изобильных урожаев. Они помогут механизировать к 1955 году, как решил XIX съезд партии, 95 процентов всей пахоты и всего сева в стране.
Единение ученых и инженеров стало характерной особенностью нашего времени. Машины, рождающиеся благодаря этому единению, становятся подлинными «орудиями наук и», проводниками в жизнь достижений передовой советской науки.