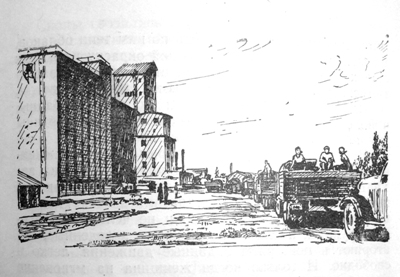Глава 7
ВТОРОЙ ПЕРЕВОРОТ
Сельское хозяйство нашей страны — это грандиознейшее производство. Одного только зерна к концу пятилетки мы будем иметь в два с лишним раза больше, чем получала вся аграрная царская Россия. Малейшее улучшение технологического процесса в какой-либо отрасли сельского хозяйства, механизация, связанная с этим экономия рабочей силы, если их распространить на всю страну, дают ни с чем не сравнимый эффект.
...В ветреный летний день я шел по необозримым золотисто-солнечным полям. Со скоростью мчащихся машин проносились по ним тени облаков, на мгновение делая более сочной окраску несжатых еще хлебов, чтобы минуту спустя они вновь засветились, словно изнутри, желтым солнечным светом.
Вдали у горизонта плыли корабли-комбайны, и невольно в моем воображении вставали картины труда, на смену которому пришли машины.
В страдную пору поле покрывалось бесчисленными белыми платочками женщин. Левая рука захватывает пучок, правая отводит серп. Жикающий звук, шаг вперед, мерные, автоматические движения одно за другим. Словно и не человек повелевает руками, а они сами, один раз заведенные, повторяют и повторяют заданные движения легко и свободно. И только когда женщина на мгновение разгибает занемевшую спину, когда проводит рукой по коричневому, влажному лбу и, высоко Поднимая грудь, старается захватить побольше воздуха, поймешь, что не сами собой ходят эти руки, не сами собой валятся наземь срезанные стебли.
Их заботливо свяжут потом в золотые снопы, свезут снопы на ток, где будут молотить, размеренно взмахивая цепами.
Давно прошедшие, казалось бы, забытые времена!
На смену серпам, а потом и косам на поля вышли первые машины — конные жатки. Вначале они только косили хлеб, который женщины подбирали за ними, вязали в снопы. Но сколько экономилось уже сил! Насколько производительнее становился труд человека!
Прошло время, и на полях появились тракторные жатки-сноповязалки. Они не только скашивали хлеб, они и вязали его в снопы.
Снопы свозились подводами на тока, складывались в огромные скирды, потом попадали в молотилки, исчезая в них, чтобы наполнить подставленные мешки золотым зерном, чтобы желтым факелом соломы вылететь из конца трубы на вершине горы-омета.
...Но вот они, степные корабли, как народ окрестил эти, плывущие по хлебным полям «фабрики зерна».
Когда-то у старых пароходов колесо с плицами вертелось за кормой. У приближающегося степного корабля похожее колесо, но оно расположено впереди. Это мотовило. Вращаясь, оно кладет хлеб на режущую часть комбайна, на хедер, где в неуловимо быстром движении мелькает острый нож, подрезающий стебли. Они попадают на транспортер. Желтым потоком бегут колосья, исчезая в пасти машины. Дрожит ее корпус, нескончаемой пулеметной очередью обрушиваются на колосья удары стальных бил. Металлические рычаги неистово трясут решетки, просеивают и провеивают зерно, заменяя многие сотни людей, занятых прежде на этой работе.
Из колосьев, попавших в молотильную часть, почти молниеносно вымолачивается зерно и тут же очищается — мощное «дыхание» вентиляторов обдувает его.
Позади комбайна виден движущийся на собственных колесах огромный прицепной ящик. В нем скапливаются выброшенные из комбайна солома и полова. Задняя стенка ящика только что приподнялась, и на жнивье вывалилась копна соломы.
Между комбайном и прицепным соломокопнителем движется ряд дисков, врезающихся в землю. Это лущильник. По завету академика Вильямса, он одновременно со сжатием хлебов обрабатывает жнивье, чтобы проросли на нем сорняки, обреченные на гибель при зяблевой вспашке.
Группа машин движется мимо. Тракторист с кирпичного цвета лицом задорно подмигивает. Поравнялся стоящий у штурвала комбайнер. Он сосредоточенно строг. Глаза его напряженно прищурены. Заметив впереди бугорок, он движением штурвала поднимает хедер.
На мгновение этот человек представляется мне дирижером оркестра стройно работающих, в буквальном смысле слова связанных между собой, соединенных в один организм разнородных машин, режущих, обмолачивающих, просеивающих, провеивающих, собирающих солому в копны.
Каждый из этих механизмов, частей машины еще задолго до страдной поры заботливо налаживался комбайнером. Подобно оркестрантам «репетировали» они свои «партии», чтобы исполнять их безукоризненно сейчас, в «симфонии» уборки.
Грузовик едет рядом с комбайном. Над его кузовом конец наклонной трубы, идущей от комбайна. Шнек, бесконечный винт, гонит по ней обмолоченное зерно. Золотой струей, продуваемой довольно сильным ветром, оно льется в наполовину заполненный кузов. В глаз мне что-то попадает. Убеждаюсь на опыте, что зерно еще нужно дополнительно провеивать. В кузове, направляя струю зерна, стоит подросток. На его обязанности разравнивать в автомашине пшеницу, всего лишь минуту (!) назад стоявшую на корню.
На площадочках по обе стороны соломокопнителя виднеются фигурки двух женщин. По самые глаза повязанные платочками, они разгребают в ящике копнителя ниспадающую туда потоком солому.
Тракторист, комбайнер, шофер — командиры машин. Мне немного обидно за девушек и подростка. Только они и заняты здесь физическим трудом. Но их только трое — трое осталось там, где стояли прежде сотни с серпами и цепами.
Что же дал сельскому хозяйству комбайн, эта чудо-машина, механизирующая все операции уборки — от срезания колосьев до очистки зерна?
Не будем сравнивать комбайн с допотопными орудиями — с серпом и цепом, — сравним его с самыми лучшими жатками-сноповязалками и сложными молотилками, которые сами по себе тоже кажутся чудо-машинами.
Экономисты ВИСХОМа подсчитали, что:
при уборке хлеба жатками-сноповязалками, с доставкой его на ток, и при обмолоте молотилками требовалось на один гектар, условно говоря, занять одного человека на 73,4 часа, затратить 73,4 человеко-часа;
при уборке комбайном «Сталинец-6» на все эти процессы расходуется 4,3 человеко-часа — в 17 раз меньше!
при среднем урожае можно считать, что на каждый пуд зерна экономится по 0,5 человеко-часа.
Попробуем представить себе, что выиграла страна в целом от применения комбайнов.
Наше сельское хозяйство получило за послевоенное время 146 тысяч комбайнов. Если их поставить друг за другом, то они протянулись бы от Москвы до самого Черного моря.
В 1952 году эта армия комбайнов сняла три четверти урожая. Урожай этого года дал нам 8 миллиардов пудов хлеба, значит, на долю комбайнов пришлось 6 миллиардов пудов.
На каждом пуде экономится по половине человеко-часа. Это значит, что за весь период уборки сбережено 300 миллионов человеко-дней (при 10-часовом рабочем дне в горячую пору).
300 миллионов человеко-дней!
Это месяц работы десяти миллионов человек!
Вот откуда берутся у нашего народа силы для небывалого подъема всех отраслей сельского хозяйства и промышленности, для возведения невиданных в мире сооружений великих строек коммунизма.
Вот почему советский народ, вооруженный ныне самой передовой техникой, сумел дать за 1951 и 1952 годы, как указал товарищ Берия на XIX съезде партии, на 22 процента больше промышленной продукции, чем за первую и вторую пятилетки, вместе взятые.
* * *
По кубанским полям плывут гиганты-комбайны. В невиданные прежде сроки закончена уборка урожая. Засыпаны до самых своих небоскребных высот многочисленные элеваторы — наши «башни изобилия». Мимо идут поезда с комбайнами на платформах.
Куда их везут?
Славно поработавшие на юге комбайны держат теперь путь через всю страну — с юга на север, с запада на восток.
В Сибири, бескрайной житнице Союза, урожай поспеет как раз к тому времени, когда подойдут поезда с кубанскими комбайнами и лихими казаками-комбайнерами. На своих комбайнах они успеют снять еще один богатый урожай, сибирский урожай.
На каждый комбайн, на каждого его командира за сезон придется по 2 тысячи гектаров снятых хлебов!
Кончена уборка и этого урожая.
Быть может, снова подойдут поезда, чтобы доставить комбайны обратно на Кубань?
Нет, на Кубань вернутся только комбайнеры. Комбайны «осядут» здесь, на востоке, как осталось тут во время войны оборудование переброшенных с запада заводов. И как наполнились новыми станками коробки опустевших на западе заводов, так пополняются хозяйства кубанских совхозов и колхозов. Для будущей уборки они получат новые комбайны.
Так, по-хозяйски насыщалась наша страна комбайнами. Больше 60 процентов всего урожая нашей страны убрано комбайнами в 1951 году. 75 процентов снято в 1952 году.
Непрестанно совершенствуется эта подвижная фабрика зерна. Она уже обрела самоходность, не нуждается больше в тракторе.
Появился советский самоходный комбайн, успешно конкурирующий с прицепным.
Доктор технических наук, лауреат Сталинской премии М. Л. Пустыгин и инженер И. С. Иванов стремились сделать эти комбайны «живыми, осязающими существами».
Хедер, режущая часть обычного комбайна, должен идти на определенной высоте над землей. При изменении рельефа почвы комбайнер должен поднять или опустить хедер. Особенно трудно управлять машиной в ночное время, когда приходится работать при свете фар. При высоких и густых хлебах комбайнер для надежности ведет хедер более высоко над землей, чем это необходимо.
Новый комбайн сам нащупает копиром рельеф местности. Если необходимо поднять или опустить хедер, электрический ток, включающийся от обычного аккумулятора, воздействует на вентиль, с помощью которого комбайнер обычно управляет хедером. Нагнетаемое насосом масло поднимет или опустит режущую часть комбайна на нужную высоту. Комбайнер может теперь не бояться, что хедер зароется в землю, может не задерживать ради осторожности ход комбайна и вести уборку на предельной скорости.
Испытания этого приспособления показали, как много ценных качеств приобретает «ожившая» машина.
Не дает покоя создателям новых комбайнов и тяжелый труд двух девушек, вынужденных стоять ныне на запятках машины и разравнивать солому в копнителе. Трудно им поспевать за такой производительной машиной, как комбайн! А разве нельзя придумать такое приспособление, которое разравнивало бы солому в копнителе? Конечно, можно, оно будет создано, но... достаточно ли и этого?
Остающаяся в поле солома причиняет много забот. Ее нужно собрать в гигантские скирды. Потом она будет служить и для корма скота, и как строительный материал, и как топливо. А быть может, лучше сразу уплотнить или даже спрессовать солому тут же на ходу, в прицепленной к комбайну специальной машине? Насколько будет удобнее перевозить соломенные тюки!
...Я давно уже вскочил на подножку грузовика, кузов которого заполнился зерном. Автомашина выезжает на пыльную дорогу.
— Куда мы едем? На элеватор? — спрашиваю я через окно кабины.
Бригадир, сидящий рядом с молодцеватым шофером, отвечает мне:
— Кабы на элеватор! Было б то добре!
И обстоятельно объясняет, что такое зерно кондиционное и что такое — некондиционное.
— На чистку еще зерно треба подать. Хорошо, оно сухое. В северных районах, особенно после дождя, без сушки — никуда.
Наш грузовик подъезжает к току.
Здесь людно и шумно. Не двигаясь с места, грохочет трактор. Через шуршащие приводные ремни мотор его заставляет работать две веялки. По обе стороны их — два золотистых конуса непровеянного и уже провеянного зерна.
Бойкие женщины, пересмеиваясь, взобрались в кузов и выгружают теперь зерно из нашей машины на землю. Другие женщины подбрасывают зерно лопатами к веялкам. Молодая девушка, нагибаясь и разгибаясь, зачерпывает большим совком зерно и засыпает его в веялку.
Кроме веялок, на току стоит зернопульт — наклонный транспортер. К нему подгребают лопатами зерно, и он уносит его наверх, чтобы с силой выбросить в воздух рассыпающейся струей.
Под золотым ее дождем на глазах растет второй конус готового зерна.
Грохочут машины, спешат. И людям много дела около них.
Очищенное зерно ссыпают в мешки. Их приходится вручную подтаскивать к весам.
Работа кипит. Вскидываются лопаты, сыплется зерно, трясется веялка, нарастает желтая гора, отъезжают и подъезжают грузовики. Люди соревнуются и между собой и с машинами.
А должны ли люди соревноваться с машинами? Почему зерно, прошедшее комбайн, где к нему не прикоснулась человеческая рука, должно подаваться теперь в веялки красавицей казачкой, напрягающей спину?
Повязывая косынку, она подошла к бригадиру:
— Зараз посылайте меня на машину в поле. Надоело, с совком да с совком, как с горшком у печи.
Девушка обращается ко мне, словно я отвечаю за всех конструкторов и механизаторов:
— Что ж вы, товарищи, ничего тут не придумаете! Разве это машина? — и она с укором показывает мне свой совок.
Трудно с ней не согласиться. Перевожу глаза на мешки, которые люди бросают на весы. Здесь тоже что-то недоделано...
* * *
Я еще раз в кабинете у энтузиаста комплексной механизации Михаила Ивановича Горячкина. На этот раз речь идет о том, сколько рабочей силы нужно на операции по дополнительной очистке зерна после комбайна.
Оказывается, доставка к токам и обработка там зерна, уборка соломы и половы требуют еще затраты 76,9 человеко-часа на один гектар.
76,9 человеко-часа! Сюда входит труд женщин с лопатами, казачки с совком, людей с мешками и у весов, наконец вывозка соломы, скирдование и все недостаточно механизированные процессы, вчера казавшиеся второстепенными.
— Можно ли все это механизировать?
— Конечно. До сих пор мы механизировали главное: обработку земли, уборку урожая, уход за растениями. Теперь доходит очередь и до «мелочей». Товарищ Сталин указывает нам на один из важнейших заветов Ленина — никогда не отказываться от малого в работе, «ибо из малого строится великое».
— Что же даст механизация всех этих «мелочей»?
— Столько же, сколько дал комбайн. Простые эти слова буквально ошеломили меня.
— Значит, механизировав работу на токах, можно добиться в сельском хозяйстве такого же переворота, какой был произведен комбайном?
— Да, «из малого строится великое». Это будет второй переворот. Люди будут освобождены от погрузочных и разгрузочных работ. Взвешивать не мешки или носилки, а целиком автомашины или возы. Никаких лопат! Только транспортеры или нории с ковшами на бесконечной цепи. А в итоге — по всей нашей стране сберегутся месяцы работы миллионов человек.
Мой собеседник продолжает сидеть, но кажется мне и шире в плечах и выше ростом. Этот человек живет в будущем и борется за него.
— Сделать все это так же трудно, как создать комбайн?
— Вовсе нет. Значительно легче. Веялки есть. Сегодня их можно связать между собой транспортными механизмами. Завтра — создать комплексный агрегат.
Я уже вижу, что совок в руках знакомой мне девушки превращается в десятки таких совков, связанных между собой цепью, приводимой в действие машиной.
Я рассматриваю чертежи механизированного тока.
Автомашина подъезжает к завальной яме-бункеру, чтобы осыпать зерно. К нему не прикоснутся лопаты. Под зерном в кузове лежит брезент. Теперь, откинув заднюю стенку кузова, закрепляют за неподвижные крюки край брезента у кабины водителя. Машина полегоньку движется вперед. Крюки при этом стаскивают брезент, заставляя все зерно высыпаться в яму.
Мелочь? Чья-то простая выдумка? Но какой она дает эффект! Колхозные изобретатели придумали и другие не менее остроумные способы, берегущие труд грузчиков.
Из завального бункера зерно зачерпывается ковшами норий, нанизанных на «бесконечную» цепь. Они доставляют зерно сначала в веялку, а потом — в сушилку. Ведь для ряда районов просушка зерна обязательна. После сушилки опять же нории подадут зерно в веялку. Дальше, в случае нужды, оно само пересыплется в стоящую внизу зерноочистительную машину или попадет в бункер, откуда прямым путем в автомашину.
Посевной материал при этом будет рассортирован по удельному весу каждого зерна. Машина превращает зерно в «жидкость». Слой зерна продувается снизу потоком воздуха, вспухает. При этом масса зерна ведет себя точно так же, как жидкость. Наверху оказываются более легкие зерна, внизу — более крупные. Теперь их уже нетрудно отобрать, отвести по специальным трубам в мешки.
К зерну за все время его обработки не прикоснется человеческая рука. Знакомая мне девушка, работавшая с совком, будет обходить эти машины, будет их командиром!
Много ли существует полностью механизированных токов в колхозах?
Да, они появлялись по инициативе наиболее передовых колхозов, по инициативе Всесоюзного института механизации сельского хозяйства — ВИМа. Такие тока работают в колхозе «Труд» Загорского района Московской области, в колхозе «Борец» Бронницкого района той же области, в колхозе имени Ленина Тугулымского района Свердловской области, в колхозе имени Буденного на Кубани и еще во многих других местах.
— Подобные тока будут созданы повсюду, во всех колхозах без исключения и в первую очередь на Кубани, — говорит руководитель лаборатории зерноуборки ВИМа Я. М. Жук. — Мы разработали и применили простейший передвижной механизированный ток на салазках. Боюсь, что он не произведет на Вас такого впечатления, как «корабль пшеничного моря» — комбайн.
Он действительно неуклюж с виду, этот механизированный ток, который хоть сегодня может сделать у себя каждый колхоз. Но именно этой своей простотой он и подкупает!
Ток состоит из двух веялок и двух бункеров над ними, оборудованных нориями.
— Применение таких токов в девять раз сокращает потребность в рабочей силе, — заверяет Я. М Жук. — Их можно использовать всюду, где не нужна сушка.
Инженер с увлечением рассказывает, как можно механизировать процесс уборки соломы и половы.
Перед моими глазами возникают сети, которые забрасывают не в море, а в поле, на растянутые ряды копен. Трактор тянет сети, и за ним нарастает движущаяся скирда.
Инженер показывает, как из двух обычных весов можно оборудовать платформу для взвешивания целиком «автомашины-бестарки» с зерном. Не нужны мешки! Не нужно их «ворочать»!
По постановлению правительства колхозы и совхозы Кубани должны завершить комплексную механизацию по зерну, подсолнуху, кукурузе в 1952—1954 годах. Именно там наметило наше правительство провести сначала второй переворот в сельском хозяйстве, подобный тому, который повлек за собой комбайн. И уборочная кампания в кубанских колхозах и совхозах прошла совсем в иных условиях, чем в предыдущем году.
Все трудоемкие работы на токах механизированы.
На току колхоза имени Мичурина Ново-Кубанского района совсем не видно людей. Там работа-юг одни машины. Для очистки зерна колхозники сами соединили четыре сортировки. Для погрузки зерна колхозник-рационализатор Д. Н. Плахти изготовил зернопогрузчик. Очищенный хлеб попадает в бункер, откуда сам высыпается в автомашины.
В одном Ново-Кубанском районе действуют 22 механизированных и электрифицированных тока, а в целом по краю их уже насчитывается свыше тысячи.
Комплексная механизация позволила по-новому организовать труд. В передовых колхозах и МТС Кубани введен поточно-часовой график. Впервые его применил Герой Социалистического Труда бригадир Малороссийской МТС Иван Бунеев, работая с полеводческой бригадой сельхозартели «Путь к коммунизму». Еще днем хлеб стоял у них в поле на корню, а на следующее утро, как и предусматривалось графиком, поле было обработано, зерно снято, обмолочено, очищено и доставлено на элеватор, солома подтянута и собрана в скирды. Ничего не оставлено «на потом»!
Новые методы труда при комплексной механизации позволили Кореновскому, Курганскому и многим другим районам сдавать за день государству по 2,5—3 тысячи тонн зерна — по нескольку тяжело груженных поездов!
Кубань превратилась в гигантскую лабораторию комплексной механизации и передовых методов организации труда.
Эти передовые методы сельскохозяйственного производства подхвачены и в Ставропольском крае, где уже появилось около тысячи механизированных токов. Эти методы находят широкое применение и на Украине. Наряду с механизированными токами украинские колхозники оборудовали у себя полторы тысячи электрифицированных токов.
Эффективность механизации этих трудоемких процессов оказывается огромной. В самую горячую пору колхозы не ощущают недостатка в людях, справляются с работой заблаговременно и без напряжения. Результаты, достигнутые в передовых колхозах, показывают, какие неисчислимые ресурсы повышения производительности и облегчения труда людей таятся в завершении механизации всего нашего сельского хозяйства, намеченной директивами XIX съезда партии.
Для решения задач комплексной механизации конструкторы объединяются уже не только с агротехниками, но и с экономистами. Дело не только в том, чтобы изобрести, сконструировать замечательную машину, но прежде всего в том, чтобы решить, какая нужна машина, какие процессы труда или какой их комплекс должна она механизировать.
И снова первое слово принадлежит сельским механизаторам, самим хозяевам машин. Их не устраивает уже, что комбайн не очищает зерно полностью. На очень многих комбайнах они установили механизм третьей очистки. Это позволило некоторым колхозам сдавать зерно сразу же после комбайна на элеватор, минуя ток.
К концу пятилетия 90 процентов урожая зерновых культур и подсолнуха будет убираться комбайнами. Появится новый комбайн, конструкция которого подсказана сельскими механизаторами. Этот комбайн будет производить на ходу окончательную очистку зерна. Если сушка не нужна, зерно можно везти на элеватор. Механизированный ток будет нужен лишь там, где по климатическим условиям зерно требует сушки.
Научно обоснованный план комплексной механизации захватит все области сельского хозяйства.
В разработке его уже участвуют не только инженеры-механизаторы, не только селекционеры и агрономы, животноводы и почвоведы — его уже создают сами колхозники, эти неоценимые научные сотрудники величайшей в мире лаборатории новаторства, помещающейся под небом Кубани и Подмосковья, Украины и Сибири...