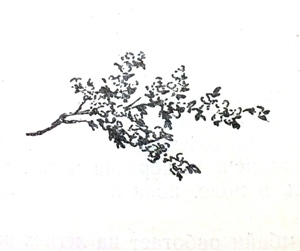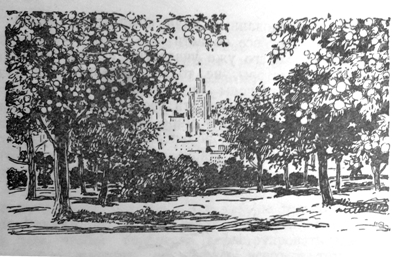Глава 8
ФАБРИКА ВИТАМИНОВ
Поезд шелк Ленинграду.
Город-герой. Нева с отражениями золотых шпилей и дворцов. Мосты, которым нет равных в Европе. Проспекты прямые, как меридианы. Много памятников — страницы русской истории. Много заводов — страницы русской революции...
Скоро я увижу город. Пока за окном простирается болотистая равнина. Низкий, чахлый кустарник. Суровая природа окрестностей северной столицы.
Промелькнул заросший травой противотанковый ров. Где-то здесь проходила линия обороны, через которую не смог прорваться враг, тщетно затягивавший петлю блокады.
Сколько ленинградцев выходило в те дни на эти равнины, чтобы возвести укрепления, сделать город неприступным. Профессора и рабочие, студенты и домохозяйки — все работали тогда здесь с киркой и лопатой. Их подвиг — часть великого подвига города-героя. Он не сотрется в памяти народа.
Но что это? Ожившая страница истории? Откуда появилось вдруг здесь, на равнине, такое множество работающих людей?
В эти осенние дни 1951 года тысячи и тысячи ленинградцев действительно выходили на болотистые равнины, как в памятном 1941 году.
Воздух оглашался грохотом могучих тракторов. Бульдозеры гнали перед собой бугры земли, сгребая их в гигантский вал.
Буксуя на болотистой почве, один за другим подъезжали грузовики.
Над болотом вырастала земляная гряда шириной в восемь метров и высотой около метра. Ее насыпают на низинных, болотистых участках, где застаиваются талые и дождевые воды. Машины сгребают верхний плодородный слой к середине гряды. Подпочвенные слои, вынесенные наверх, еще будут предметом заботы занимающихся ими людей. Землю эту станут культивировать, делать плодородной по методу профессора Н. Жучкова, которому за его метод выращивания плодовых деревьев под Ленинградом присуждена Сталинская премия.
Да, за метод выращивания плодовых деревьев.
Кольцо вокруг Ленинграда, о котором идет речь, это не кольцо укреплений. Это зеленое кольцо.
Фруктовые сады окружат город Ленина, город-герой, один из крупнейших культурных и индустриальных центров нашей страны, удаленный от южных, богатых фруктами садов. Сады теперь появятся там, где никогда не росли плодовые деревья. Они протянутся к Ленинграду 150-метровыми полосами вдоль железных дорог и шоссе — от Пушкина и Гатчины, от Ижоры и Петродворца, — и через несколько лет от них в проезжающую машину будет доноситься сладкий аромат.
Тысячи ленинградцев закладывают зеленое кольцо. Но они вооружены не лопатами и кирками, которыми рыли здесь когда-то противотанковые рвы. Тарахтят тракторы, ровняют землю грейдеры, бороздами, будто проведенными плугами великанов, появляются глубокие выемки за канавокопателями, с грохотом вываливается земля из колоссов-самосвалов. Вот они — машины беспримерной мощности, которые уже названы на великих стройках техникой коммунизма! Здесь, под Ленинградом, люди с их помощью создают сады, которым цвести при коммунизме.
Сады вырастут на огромных грядах, возвышающихся над болотистой равниной. Под деревьями будет плодородный слой в 70—100 сантиметров вместо обычных 18—20. Профессор Жучков доказал, что на такой почве деревья развиваются быстрее, легче переносят северную зиму. Высаженные на грядах фруктовые деревья могут и будут расти под Ленинградом.
И ленинградцы вышли на пригородные равнины, как вчера выходили на строительные леса, где каждый ленинградец клал свой кирпич в восстанавливаемые здания любимого города. Уже высажено 136 тысяч фруктовых деревьев, около 300 тысяч ягодных и декоративных кустарников. Завтра их будет 13 тысяч гектаров, не считая отведенных под колхозные сады.
Целая фруктовая тайга вокруг Ленинграда.
Такие же плодовые леса должны быть и под Москвой.
Никита Сергеевич Хрущев с трибуны совещания работников сельского хозяйства Московской области призвал создать близ столицы и в Подмосковье многие тысячи новых плодовых садов.
Плодовые деревья должны расти в каждом колхозе, в каждом селе, вдоль каждой железной дороги, вдоль каждого шоссе.
Разве не об этом мечтал Мичурин, выводя своп чудесные плоды? Мы знаем их по выставкам, мы удивлялись всегда, глядя на них. Реже мы пробовали их на вкус. А ведь они могут расти в каждом палисаднике. Так почему же не выращивать миллионы этих сочных мичуринских плодов и под Ленинградом и под Москвой?
Передовые колхозы уже взялись за это важнейшее дело.
Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени Владимира Ильича в Горках Ленинских Иван Андреевич Буянов рассказывает, что молодой плодовый сад в их колхозе разбит был в 1940 году на 8 гектарах. Теперь он расширяется до 50 гектаров. Колхозники ежегодно шлют в Москву фрукты лучших мичуринских сортов на 300 тысяч рублей.
Скоро выйдут на подмосковные поля вооруженные передовой техникой энтузиасты мичуринского дела, чтобы так же, как и ленинградцы, заложить под столицей «фруктовую тайгу».
И будут летать завтра под Москвой по «Большому фруктовому кругу» самолеты сельскохозяйственной авиации, опрыскивая миллионы плодовых деревьев и ягодных кустарников. И будет Москва иметь вскоре такое же изобилие фруктов и ягод, как и овощей.
И это будет, будет, ибо XIX съезд партии говорит: «Увеличить за пятилетие площади садов и ягодников в колхозах, примерно, на 70 процентов...»
* * *
Овощи.
«Огородная культура».
До сих пор слова эти звучали как синонимы ручного, физического труда.
Никогда ни в одной стране мира не механизировалось огородное дело. Да и как сделать это? Овощи не посеешь дисковыми многорядными сеялками, их не сожнешь, не скосишь уборочными машинами.
К тому же многие овощи высаживаются на грядке в виде рассады. Выращивать ее надо под стеклом парниковых рам. Разве придумаешь машину, которая переносила бы едва развившиеся растеньица из парников на огород?
Может быть, в самом деле есть в сельском хозяйстве своя специфика и правы те «огородных дел мастера», которые говорят:
— Огородники, как и художники, должны руками работать.
Самое простое согласиться с этим, поверить, что с рассадой машинами не сладишь.
А между тем решения XIX съезда партии требуют самым широким образом развернуть механизацию трудоемких работ в овощеводстве, которое невиданно разовьется за годы пятой пятилетки.
Растут, ширятся социалистические города и промышленные центры нашей родины. Нескончаемыми вереницами идут к ним поезда и автомашины. Многие вагоны, многие грузовики нагружены овощами. Чем скорее доставлены будут овощи, тем больше сохранится в них витаминов.
...В устье Гудзона, на тесном каменном острове Манхеттен приютился чудовищный людской муравейник. Чтобы прокормить восемь миллионов человек, в десятки слоев живущих друг над другом, нужно везти овощи даже из далеких штатов. Монополиям, захватившим в свои руки снабжение нью-йоркцев овощами, выгоднее сбывать консервированные или замороженные продукты, конечно, уже не содержащие витаминов. И свежие овощи становятся не по карману простому рабочему, продавщице или клерку.
Люди советских городов должны всегда и в изобилии получать свежие овощи, богатые витаминами. Для этого овощи должны выращиваться вблизи городов, чтобы сберегалось время на доставку их, уменьшалась загрузка транспорта.
И XIX партсъезд записывает: «Увеличить производство овощей, картофеля... в пригородных зонах Москвы, Ленинграда, городов Урала, Донбасса, Кузбасса и других промышленных центров и крупных городов; создать картофельно-овощные базы в новых промышленных районах».
Для выполнения этой задачи наши пригородные сельские хозяйства должны превратиться в грандиозную фабрику витаминов.
Современная фабрика — это высокоорганизованное механизированное производство. Неужели может стать таким и овощеводство?
Попробуем найти на это ответ и войдем в Колонный зал Дома союзов в столице в дни совещания работников МТС и сельского хозяйства Московской области.
Сюда собрались труженики подмосковных полей. Они решают здесь свои дела...
В Америке бывают съезды фермеров, участников которых волнует только одно — цены.
Продажная буржуазная печать, безудержно рекламируя «американский образ жизни», кричит о «процветании фермеров». На деле же засухи и вредители сельского хозяйства губят урожаи. Если взять урожай пшеницы в 1948—1949 годах за 100 процентов, то, последовательно снижаясь из года в год, он скатился в 1951—1952 годах до 75,6 процента. Урожай хлопка в 1950 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 38 процентов.
Капиталистические монополии, скупая у фермеров по ничтожной цене продукты их труда, наживают огромные прибыли, а доходы фермеров с 1947 года по 1950 год фактически уменьшились на 44 процента. Это признала даже сенатская комиссия по вопросам сельского хозяйства. За последнее десятилетие 7 миллионов фермеров разорились и бежали из деревни.
Сотни тысяч фермеров дошли уже до того, что работают на земле капиталиста, отдавая ему половину урожая. Их выгоняет на поля окрик надсмотрщика. Эти так называемые «кропперы» уже ничем не отличаются от «крепостных», от рабов, полностью утративших самостоятельность. А те из фермеров, кто не потерял еще призрачной самостоятельности, судачат на съезде... о ценах.
Никто из американских правителей не ищет выхода из тупика, в который уперлось сельское хозяйство Америки, никто из них не задумывается над тем, как бороться с засухой, как насадить леса взамен вырубленных «хищниками от доллара», как использовать богатейшие водные ресурсы таких рек, как Миссури и Миссисипи, как спасти почву от эрозии. Не интересует разоряющихся фермеров и агротехника или научные методы обработки земли, не заботятся они о выращивании новых сортов или о совершенствовании сельскохозяйственных машин.
Какие уж там машины, если почти четверть всех фермерских хозяйств в США не имеет ни трактора, ни лошади, ни какой-либо тягловой силы!
В чем же выход? Во взвинчивании цен?
Но оставим американских фермеров. Легенда об их процветании давно рухнула...
Вернемся в Колонный зал Дома союзов. В президиуме — Никита Сергеевич Хрущев и академик Трофим Денисович Лысенко, председатели лучших колхозов и руководители передовых машинно-тракторных станций.
С трибуны совещания звучат голоса известных ученых, которые рассказывают о том, как обрабатывать землю, удобрять ее, как снимать высокие и устойчивые урожаи. Руководители колхозов и машинно-тракторных станций передают свой опыт, говорят о том, как лучше использовать могучий, предоставленный государством парк машин, сосредоточенный в МТС, ставших ныне решающей силой в сельском хозяйстве.
Здесь, в Колонном зале, говорят о высоких и устойчивых урожаях, о квадратно-гнездовом методе посадки картофеля и других культур, перекрестном севе зерновых, о всем передовом, что выдвинула сегодня наука, о задачах, которые ставятся перед колхозниками и механизаторами партией и правительством.
Снабжение овощами столицы — одна из основных задач подмосковных колхозов.
Может быть, потому с таким вниманием слушает сейчас зал выступление известного ученого:
— Прежде рассаду высаживали руками из парников в грядки. Вытаскивали молодое растеньице вместе с корнями из земли, в которой оно начало расти, и пересаживали в другую землю, где оно должно было вновь привиться. Не лучше ли пересаживать рассаду вместе с землей? Лучше. Но «земля», в которой растет рассада, должна быть особенно богатой всем необходимым для развития растения. Такой «землей» для рассады, вместе с которой она должна быть перенесена на грядку, могут стать «питательные кубики». Эти кубики прессуются из торфоперегнойной массы в виде шестигранных стаканчиков. Они плотно прилегают друг к другу, как плитки паркета. В них и прорастает рассада под парниковыми рамами. Высаживается такая рассада вместе со своим питательным кубиком. Выгоды огромны. Урожай овощей значительно повышается. Применение таких торфоперегнойных горшочков в одном из подмосковных колхозов принесло колхозникам дополнительный доход в сто девяносто две тысячи рублей.
Ученый увлеченно говорит, что кубики из торфоперегнойной массы ничего не стоит сделать в любом колхозе. В фойе можно посмотреть ручной станок для их прессовки.
— Нажал ручку — и сразу несколько штук спрессовано. Стоит такой кубик пятачок, а дополнительного дохода приносит на три рубля!
Никита Сергеевич из президиума поправляет оратора:
— Не пятачок, а полторы копейки.
По залу пробежал шорох.
— Вот видите, — обрадовался ученый. — Три рубля можно получить за полторы копейки. Кто может пройти мимо такой возможности?
Едва ли на съезде американских фермеров кто-нибудь мог разгласить с трибуны секрет метода, дающего 2 тысячи процентов прибыли.
Этого никогда не могло быть в капиталистической стране.
А в нашей стране уже многие колхозы установили у себя ручные станки для прессовки питательных кубиков.
Но скоро ручной станок-пресс перестал удовлетворять наших механизаторов. Зачем каждому колхозу самому себе кустарно готовить питательные кубики? Они нужны всем, их надо изготовлять массовым порядком для всех, не на ручном станке, а на станке-автомате.
Такой станок рождается сейчас в одной из лабораторий ВИСХОМа.
Это уже типичный производственный автомат. Приготовленная машинами торфоперегнойная масса поступает в него с одного конца, а конвейер выносит с другого бесконечную вереницу аккуратных отштампованных шестигранных горшочков.
Там же в ВИСХОМе создается и машина для высадки рассады вместе с питательными кубиками.
Горшочки прямо из-под парниковых рам переносятся в короб машины. Когда посадочная машина идет над грядкой, кубики с рассадой скатываются по наклонному желобу, один за другим попадая в углубления на грядке.
Рассада перекочевывает на грядку вместе со своим высокопитательным «земельным наделом». Растению не нужно приспосабливаться к новой среде, оно быстро развивается и дает большой урожай.
Так сочетается механизация трудоемкого, не поддававшегося прежде механизации процесса с высокоэффективным агротехническим методом.
Снова проявила здесь себя характерная для наших условий черта тесного взаимодействия творческой мысли агротехников и механизаторов.
На том же совещании в Колонном зале один из председателей колхоза рассказывал, что для отопления парников у них используют теплую воду 70—90°С — отходы ближнего завода. Овощи поставляются теперь в Москву круглый год. Колхозники приступили к созданию парникового комбината, который будут обслуживать всего 40 человек, а дохода он даст 40 миллионов рублей в год.
Поступить так может не только тот колхоз, которому повезло на соседство с заводом. Многие колхозы имеют собственные кирпичные заводы. Дымовые газы могут быть использованы для подогрева парников, выращивающих овощи круглый год.
А как же картофель, эта самая массовая после хлеба культура Подмосковья? До сих пор механизация уборки картофеля ограничивалась плугом, который выкапывал клубни.
На том же совещании, где обсуждались многие насущные вопросы подмосковного сельского хозяйства, мне привелось услышать о существовании картофелеуборочных комбайнов. Это до странности длинная, приземистая машина. Она прицепляется к трактору, от которого через длинный вал и приводятся в действие все ее механизмы.
Лемех подкапывает кусты картофеля, и они поступают на решетчатый транспортер. На нем часть земли отбивается. Клубни же с ботвой попадают между двумя, плотно прилегающими друг к другу резиновыми валиками. Картофелины вминают их поверхность и проскакивают, вылетая с большой скоростью и отрываясь от ботвы, которая все еще зажата между валиками. Еще более отделяется от картофелин и земля. Клубни подпрыгивают, скачут на наклонном решетчатом транспортере, который одновременно, окончательно очищая клубни от земли, доставляет их к корзинам. Стоящий на запятках машины человек подставляет эти корзины под «картофельный поток». Нажатие педали — и наполненная корзина проваливается, оставаясь лежать в поле, пока к ней не подъедет грузовик.
Такой комбайн работает на легких почвах очень хорошо. Убирает в день до 5 гектаров, в 4—5 раз уменьшая затраты труда по сравнению с выкапыванием картофеля плугом.
На трудных почвах комбайн еще не дает подобных результатов. Снова берутся конструкторы за карандаши, изучают результаты испытаний, изменяют детали, узлы, ищут новых решений.
Новые машины, о которых не слыхали на Западе, над которыми даже не задумывались там, выходят у нас из стен научно-исследовательских институтов. Эти машины идут не только на колхозные нивы, они идут и на огороды. Созданы даже специальные огородные тракторы, колеса которых помещаются между грядками.
Машины эти в корне меняют специфику огородного дела, превращая его в «огородное производство», так же оснащенное машинами, как и любая другая отрасль сельского хозяйства.
Тракторы для садов и огородов, культиваторы, новые посадочные машины, наконец проектируемые сейчас комбайны меняют облик наших пригородных хозяйств, высвобождают рабочую силу для индустриальных центров.